Письма к Фелиции - [4]
По воскресеньям я тоже веселею, но не сегодня; сегодня, исполняя повинность обязательной воскресной прогулки, я бродил под дождем; полдня – это лишь по видимости противоречит сказанному в первых строках – провел в постели, наилучшем прибежище для задумчивости и печали…
Хорошо же, однако, я Вас развлекаю! Милая барышня, может, мне лучше просто встать из-за стола и бросить на сегодня всю писанину? Но, быть может, Вы все видите насквозь и знаете, что в конечном счете я все равно очень счастлив, и тогда мне можно остаться и писать дальше.
В Вашем письме Вы упомянули, насколько неуютно чувствовали себя в Праге тем вечером, и хотя сами Вы об этом не сказали, а возможно, даже и не подумали, все-таки чувствуется, что ощущение неуюта вошло в тот вечер только вместе со мной, ибо до этого Макс еще почти не успел заговорить о своей оперетте, тем паче что она и вообще-то не слишком занимала его заботы и мысли, и только я, явившись со своей нелепой папкой, нарушил общее настроение. Кроме того, это была как раз та странная полоса в моей жизни, когда я во время своих все более частых визитов позволял себе сомнительное удовольствие досаждать Отто Броду, который придает особое значение своевременному отходу ко сну, нескончаемыми разглагольствованиями, по мере продвижения стрелки часов все более и более оживленными, покуда обычно объединенными и, разумеется, дружелюбно-ласковыми усилиями всего семейства не бывал выставлен из квартиры на улицу. Вследствие чего мое появление в доме в столь поздний час – девять, по-моему, уже миновало – наверняка было воспринято как угроза. То есть в сознании членов семьи два наших визита вызывали трудно совместимые чувства: с одной стороны Вы, кому предназначалась только искренняя доброта и любезность, и с другой же стороны я, так сказать, завзятый шатун-полуночник. Для Вас, к примеру, музицировали на рояле, тогда как для меня Отто начинал возиться с экраном камина – занятие, которое давно уже стало в доме специально предназначенным для меня условным сигналом отхода ко сну, но, если этого не знать, выглядит довольно странным и утомительным. Что до меня, то я, совершенно не готовый встретить в доме такую гостью, пришел всего лишь на условленную встречу с Максом (мы договорились на восемь, но я, как водится, на час опоздал), чтобы обсудить с ним расположение вещей в рукописи, о чем своевременно подумать не удосужился, а ее на следующее утро уже надо было нести на почту. И тут вдруг застаю в доме незнакомку и испытываю по этому поводу даже некоторую досаду. Тем не менее я почему-то повел себя так, будто визит Ваш для меня никакой не сюрприз. Я первым, прежде чем меня успели Вам представить, через огромный стол протянул Вам руку, хотя Вы едва приподнялись мне навстречу, не имея, очевидно, ни малейшего намерения мою руку пожимать. Я только мельком на Вас глянул, сел и сразу почувствовал, что все вокруг хорошо, едва только ощутил исходящие от Вас легкие токи ободрения, которые всегда пробуждает во мне присутствие незнакомого человека в знакомом обществе. За вычетом того, что просмотреть вместе с Максом рукопись уже не удастся, протягивать Вам фотографии талийского путешествия оказалось премилым занятием. (За эти последние слова, вполне точно отражающие мое настроение в тот вечер, я сегодня, вдали от Вас, готов себя тогдашнего просто избить.) Вы отнеслись к просмотру фотографий очень серьезно и отрывали от них глаза, только когда Отто что-то пояснял или когда я протягивал Вам следующий снимок. Кто-то из нас, уже не помню кто, по поводу одной из фотографий сказал что-то явно невпопад. Из-за фотографий Вы напрочь забыли о еде, а когда Макс обронил по этому поводу какое-то замечание, возразили, что нет, мол, ничего омерзительнее людей, которые беспрерывно жуют. Тут зазвонил телефон (между тем у меня здесь уже давно миновало одиннадцать вечера, когда для меня начинается главная моя работа, а я все еще не могу оторваться от этого письма), так вот, зазвонил телефон, и Вы стали пересказывать начальную сцену из оперетты «Девушка в авто», которую слушали в «Резиденцтеатре» (есть у вас «Резиденцтеатр»? Это точно была оперетта?): там пятнадцать человек на сцене, а в передней звонит телефон, и потом каждого по очереди одними и теми же вычурными словами зовут к аппарату. Я отлично помню даже само это французское выражение, но написать его не решусь, потому что не то что написать, а даже выговорить толком его не сумею, хотя тогда не только отлично его расслышал, но даже прочитал по Вашим губам, и хотя впоследствии оно то и дело вертелось у меня в голове, тщетно стремясь обрести неискаженную форму. Не помню уже, каким образом затем (хотя нет, до того, ибо я все еще сидел у двери, наискосок против Вас) разговор перешел на побои и в этой связи на Ваших сестер и братьев. Были названы имена некоторых членов Вашего семейства, прежде мне совершенно незнакомые, в том числе и имя Ферри (может, это Ваш брат?), и Вы рассказали, что, когда были маленькой, старшие братья, родные и двоюродные, часто Вас поколачивали, а Вы чувствовали себя совершенно беззащитной. Вы еще провели рукой по левому предплечью, которое у Вас тогда все было сплошь в синяках. Но вид у Вас при этом был вовсе не страдальческий и не беззащитный, так что я, сам, правда, толком не понимая почему, совершенно не мог себе представить, как это кто-то отваживался Вас бить, пусть Вы и были тогда совсем крохой. – Потом Вы между делом, что-то просматривая или читая (Вы вообще слишком редко поднимали глаза, а вечер был такой короткий!), упомянули, что изучали еврейский. С одной стороны, меня это удивило, с другой же – мне захотелось (но все это тогдашние мои мнения, прошедшие с тех давних пор через столько мельчайших сит!), чтобы упоминание не было столь нарочито мимолетным, поэтому втайне я испытал легкое злорадство, когда позднее Вы не сумели прочесть на обложке название Тель-Авив. – Еще, все в той же комнате, речь зашла о Вашей работе, а госпожа Брод упомянула о нарядном батистовом платье, которое видела в Вашем гостиничном номере, ведь Вы ехали к кому-то на свадьбу, и свадьба эта – тут я скорее говорю почти наугад, чем вспоминаю, – должна была состояться в Будапеште. Когда Вы встали, выяснилось, что на Вас домашние шлепанцы госпожи Брод, потому что сапожки Ваши сохнут. Погода в тот день и вправду была ужасная. В этих шлепанцах Вы, должно быть, чувствовали себя неловко и в конце нашего прохода через темную среднюю комнату даже успели сказать мне, что привыкли к домашним туфлям на каблуках. А я о таких туфлях прежде не слыхивал. – В музыкальной гостиной Вы опять оказались напротив меня, и тут я начал листать и раскладывать свой манускрипт. На меня со всех сторон посыпались самые причудливые советы относительно рукописи и ее пересылки, в том числе и Ваши, но я уже не припомню точно, какие именно. Зато я хорошо запомнил эпизод еще в предыдущей комнате, который до того меня удивил, что я даже по столу пристукнул. Это когда Вы сказали, что переписывание рукописей доставляет Вам удовольствие, Вы, мол, в Берлине часто переписываете для одного господина (проклятье, как же нелепо звучит это слово без причитающихся к нему имени, фамилии или хоть каких-нибудь пояснений!), и попросили Макса присылать Вам рукописи. Самой большой моей удачей в тот вечер было случайно захватить с собой номер журнала «Палестина», и да простится мне ради этого все остальное. Путешествие в Палестину – вот что мы с Вами стали обсуждать, и в залог обещания Вы даже протянули мне руку, а вернее, это я, силой внезапного озарения, выманил у Вас рукопожатие. – Покуда музицировали, я сидел наискосок позади Вас, Вы закинули ногу на ногу и то и дело поправляли прическу, которую я анфас представить себе не могу, зато во время концерта имел возможность отметить, что сбоку она слегка распушилась. – Затем, правда, в обществе наступила некая разрозненная вялость, госпожа Брод тихо клевала носом на кушетке, господин Брод нашел себе занятие возле книжного шкафа, а Отто вступил-таки в сражение с каминным экраном. Разговор зашел о книгах Макса, Вы что-то заметили об «Арнольде Беере», упомянули рецензию «Ост унд Вест», а под конец, листая томик полного собрания Гете в издании «Пропилеи», сказали, что и «Замок Норнепигге» тоже пытались читать, но до конца не осилили. На этих Ваших словах я просто обмер от страха – за себя, за Вас и за всех прочих. Разве не прозвучала эта фраза совершенно бессмысленным и к тому же необъяснимым оскорблением? Вы, однако, спокойно завершили свой катастрофически непоправимый пассаж, даже не подняв склоненной над книгой головы под нашими оторопелыми взорами. И вдруг оказалось, что это никакой не ляпсус и вообще ни в малейшей мере не оценка, а всего лишь житейский факт, которому Вы сами удивляетесь, почему и намерены при случае снова за эту книгу взяться. Просто невозможно было спасти положение изящней, и я тогда подумал, что всем нам должно быть перед Вами немного стыдно. – Чтобы как-то сменить тему, господин директор вытащил иллюстрированный том все того же издания «Пропилеи» и объявил, что сейчас покажет Вам Гете в подштанниках. На что Вы процитировали: «Король – он и в подштанниках король», и вот эта цитата оказалась единственным, что мне в Вас в тот вечер не понравилось. Причем я ощутил досаду за Вас почти физически, будто комком в горле, и уже тогда должен был бы спросить себя, с какой это стати я так за Вас переживаю. Впрочем, я описываю все ужасно неточно. – Быстрота, с которой Вы под конец вечера выскользнули из комнаты и вдруг объявились уже в сапожках, оказалась для меня вообще непостижимой. Хотя сравнение с газелью, к которому госпожа Брод прибегла дважды, мне не понравилось. – Довольно точно вижу, как Вы надевали шляпу и закалывали булавки. Шляпа была довольно большая, с белой подкладкой. – На улице я тотчас же впал в одно из тех, отнюдь не редких, сумеречных своих состояний, когда ничего, кроме собственной никчемности, вокруг не замечаю. На Перлгассе Вы, вероятно, чтобы как-то вывести меня из неловкого молчания и желая понять, по дороге нам или нет, спросили, где я живу, на что я, идиот несчастный, поинтересовался в ответ, угодно ли Вам узнать мой адрес, сдуру вообразив, что Вы, едва приехав в Берлин, в пожарном порядке кинетесь списываться со мной насчет путешествия по Палестине и не хотите оказаться в отчаянном положении человека, жаждущего отправить мне послание, не имея под рукой адреса. – Эта произведенная мною неловкость всю дальнейшую дорогу не давала мне покоя, окончательно сбив меня с толку, если вообще было с чего сбивать. – Еще наверху, в первой из комнат, но и потом на улице разговор заходил о некоем знакомом из Вашего пражского филиала, который в тот день после обеда катал Вас на извозчике на Градчаны. Именно мысли об этом знакомом, похоже, и помешали мне на следующее утро явиться на вокзал с цветами, хотя что-то подобное робко и брезжило в моем сознании. Но ранний час Вашего отъезда и невозможность в столь краткий срок раздобыть цветы облегчили мое решение от этой идеи отказаться. – На Обстгассе и Грабене беседу поддерживал в основном господин директор Брод, а Вы только успели рассказать историю о том, как мать открывает Вам входную дверь по условному сигналу, когда Вы на улице хлопаете в ладоши, – по поводу этой истории Вам, кстати, еще придется кое-что мне объяснить. Остальное же время самым позорным образом было разбазарено на сопоставление пражского и берлинского общественного транспорта. Помню, Вы еще успели рассказать, что перекусили в Большом торговом доме на Грабене напротив отеля. Под конец господин Брод дал Вам несколько дорожных напутствий, назвав станции, на которых можно купить какую-нибудь снедь. Но Вы намеревались позавтракать в вагоне-ресторане. Тут выяснилось, что Вы забыли в поезде свой зонт, и эта мелочь (для меня-то мелочь) добавила новые черты к Вашему облику. Но вот то, что Вы еще не упаковали вещи, хотя, несмотря на это, намереваетесь читать в постели, изрядно меня обеспокоило. Накануне ночью Вы ведь тоже читали до четырех. В качестве дорожного чтения у Вас имелись с собой Бьернсон, «Флаги над городом и гаванью» и Андерсен, «Книга картин без картин». Мне показалось, что я и без Ваших слов угадал бы эти книги, хотя ни о чем таком мне, конечно же, в жизни не догадаться. Я в очередном приступе неловкости втиснулся в одну с Вами секцию вертящихся дверей и чуть не отдавил Вам ноги. – Потом перед замершим в ожидании швейцаром мы все трое еще постояли возле лифта, за дверцами которого, пока что раскрытыми, Вы вот-вот должны были исчезнуть. Вы даже успели перемолвиться со швейцаром, и гордый тон Вашего голоса, стоит мне затаить дыхание, все еще звучит у меня в ушах. Вы не так-то легко дали убедить себя, что до вокзала близко и что авто Вам не понадобится. Правда, Вы-то думали, что уезжаете с вокзала Франца-Иосифа. – Потом и вправду настало время прощаться, я опять – как мне вообще тогда казалось – самым неловким из всех возможных способов упомянул о путешествии в Палестину, хотя и без того на протяжении вечера слишком часто говорил об этой затее, которую, похоже, никто, кроме меня, всерьез не принимал.
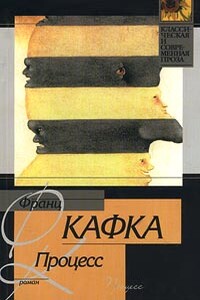
Это – `Процесс`. Абсолютно уникальная книга Франца Кафки, которая фактически `создала` его имя для культуры мирового постмодернистского театра и кинематографа второй половины XX в. – точнее, `вплела` это имя в идею постмодернистского абсурдизма. Время может идти, а политические режимы – меняться. Однако неизменной остается странная, страшная и пленительно-нелепая история `Процесса` – история, что начинается с `ничего нелепости` и заканчивается `ничем смерти`.

Написано в ноябре 1919 года, когда Кафка жил вместе с Максом Бродом в Железене (Богемия). По свидетельству Брода, Кафка послал это письмо матери с просьбой передать его отцу; но мать не сделала этого, а вернула письмо сыну «с несколькими успокаивающими словами». Оно переполнено горестными размышлениями автора о том, как тяжелые взаимоотношения с отцом в детстве повлияли на всю его дальнейшую жизнь. Это письмо Кафки полезно прочитать всем родителям, для того чтобы знать, как не надо воспитывать детей.Письмо это часто упоминается Кафкой в письмах к Милене Есенской, Отрывки из него приводились Бродом в его книге «Франц Кафка.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Трагическая обреченность столкновения «маленького» человека с парадоксальностью жизни, человека и общества, человека и Бога, кошмарные, фантастические, гротескные ситуации – в новеллах и рассказах Кафки.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«…Митрополитом был поставлен тогда знаменитый Макарий, бывший дотоле архиепископом в Новгороде. Этот ученый иерарх имел влияние на вел. князя и развил в нем любознательность и книжную начитанность, которою так отличался впоследствии И. Недолго правил князь Иван Шуйский; скоро место его заняли его родственники, князья Ив. и Андрей Михайловичи и Феодор Ив. Скопин…».
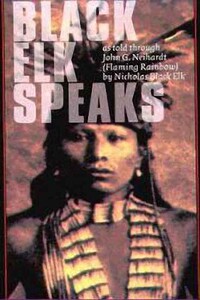
Джон Нейхардт (1881–1973) — американский поэт и писатель, автор множества книг о коренных жителях Америки — индейцах.В 1930 году Нейхардт встретился с шаманом по имени Черный Лось. Черный Лось, будучи уже почти слепым, все же согласился подробно рассказать об удивительных визионерских эпизодах, которые преобразили его жизнь.Нейхардт был белым человеком, но ему повезло: индейцы сиу-оглала приняли его в свое племя и согласились, чтобы он стал своего рода посредником, передающим видения Черного Лося другим народам.

Аннотация от автораЭто только кажется, что на работе мы одни, а дома совершенно другие. То, чем мы занимаемся целыми днями — меняет нас кардинально, и самое страшное — незаметно.Работа в «желтой» прессе — не исключение. Сначала ты привыкаешь к цинизму и пошлости, потом они начинают выгрызать душу и мозг. И сколько бы ты не оправдывал себя тем что это бизнес, и ты просто зарабатываешь деньги, — все вранье и обман. Только чтобы понять это — тоже нужны и время, и мужество.Моя книжка — об этом. Пять лет руководить самой скандальной в стране газетой было интересно, но и страшно: на моих глазах некоторые коллеги превращались в неопознанных зверушек, и даже монстров, но большинство не выдерживали — уходили.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.