Письма - [10]
Слово дифирамб[84] очень рано стало обозначать торжественную и восторженную песнь в честь Диониса. Хотя предание выводит и трагедию из дифирамба, но очень рано, уже в VI в., эти понятия — дифирамб и трагедия — дифференцировались; первый стал музыкальным, второй — поэтическим созданием, где музыка подчинилась мифу, слову. Дифирамб получил блестящее развитие в конце V в., а уже в IV в. он опошлился, сошел на степень оперы и была даже поговорка: пошло, как дифирамб.
Выражение dithyrambischer Dramatiker создано искусственно, но, по-видимому, оно обозначает участника (в широком смысле слова, включая и автора в число участников) музыкальной драмы: т. е. того, кто ее сочинял, играет, поет и танцует. У греков эти понятия разграничивались и актеры назывались «художниками (точнее — техниками) Диониса или при Дионисе».
2. Et comme l'avertissement melancoulique des gondoliers de Venise s'accorde au clapotis des noirs petits canaux, les deux, trois cris de l'agoyate (погонщик) poussant sa bete, s'associent etroitement avec Ie soleil, Ie cailloutis (звук от движения по камешкам) et les yeux brules de Peloponnese. «Hourri… Oxo… Се sont juste les syllabes gutturales que Wagner prete aux Walkyries».[85]
3. Лучшие работы по искусству эпохи Возрождения принадлежат Вышеславцеву[86] («Джиотто и Джиоттисты», «Рафаэль»); есть также русский перевод «Истории живописи» Мутера (перев<од> Бальмонта).[87]
Ваш преданный И. Анненский.
А. В. БОРОДИНОЙ
2. VIII 1906
Ц<арское> С<ело>
Дорогая Анна Владимировна,
посылая Вам письмо с ответами, я имел в виду назавтра же написать другое. Но вышло иначе — у меня накопилось столько дела, что пришлось отложить беседу с друзьями до более приятных дней. Вот, наконец, я сбыл и главную тяготу по Учен<ому> Ком<итету>, а также бесконечное число накопившихся докладов в Округе, да, кстати уж, и еще одно — дело не дело которое мучило меня уже давно. Лет шесть тому назад я задумал трагедию.[88] Не помню, говорил ли я Вам ее заглавие. Мысль забывалась мною, затиралась другими планами, поэмами, статьями, событиями, потом опять вспыхивала. В марте я бесповоротно решил, или написать своего «Фамиру» к августу, или уже отказаться навсегда от этой задачи, которая казалась мне то непосильной, то просто нестоющей. Вот послушайте миф, в древности мало распространенный и, кажется, никого не пленивший в новые века.
Сын фракийского царя Фамира (иначе Фамирид) был кифаредом, т. е. музыкантом на кифаре. Его родила нимфа Аргиопа. Надменность и успех Фамиры довели его до того, что он вызвал на состязание муз, но был осилен ими на музыкальном турнире — ослеплен и лишен музыкального дара.
Софокл написал на этот миф трагедию, которая до нас не дошла, но мы знаем, по преданию, что он был тогда еще молодым человеком, п<отому> ч<то> сам играл в своей пьесе роль Фамиры. Меня что-то давно влекло к этой теме. Между тем в этом году, весной, мой ученик написал на этот же миф прелестную сказку под названием «Фамирид». Он мне ее посвятил. Еще года полтора тому назад Кондратьев говорил мне об этом намерении, причем я сказал ему, что и у меня в голове набросан план «Фамиры», — но совсем в ином роде трагического. И вот теперь уже состоялось чтение моего «Ф<амиры>». Ек<атерина> Макс<имовна> находит, что это, безусловно, высшая из моих трагедий. Но, кажется, покуда только ей да Арк<адию> Андр<еевичу>[89] «Фам<ира>» мой и понравился. Жду Вашего суда — тем более что в «Фамиру» вошли волнующие меня Grenzfragen[90] из области музыкальной психологии и эстетики.
До свидания, дорогая Анна Владимировна. Ваш И. Анненский.
С. А. СОКОЛОВУ[91]
11. Х 1906
Ц<арское> С<ело>, дом Эбермана
Глубокоуважаемый Сергей Александрович, Одновременно с этим посылаю Вам Гейне, сокращенного до объема газетного фельетона.[92] Принципы моих литературных анализов изложены в предисловии к «Книге отражений» и иллюстрированы самой книгой (изд. Башмаковых). Об них едва ли надо мне еще Вам говорить. Я назвал книгу «Отражения» — теперь у меня лучше придумалось заглавие, точнее: «Влюбленности».
Если Гейне подойдет, время от времени могу присылать в таком же роде все небольшие вещицы, главным образом из русской и французской литературы… Вы не боитесь индивидуализации, доведенной до фантастичности?
В «Весах» меня назвали эстетическим нигилистом[93] — это неточно, т. к. я ничего не отрицаю. Но, действительно — для меня нет большего удовольствия, как увидеть иллюзорность вчерашнего верования… Книгу мою назвали также беглыми заметками[94] — против этого я решительно протестую. Я дорожу печатным, да и вообще словом… и много работаю над каждой строкой своих писаний. Я уверен, что Вас не обманет манера моего письма… Наконец, упрек «Весов» в том, что я будто подражал Мережковскому[95] — неоснователен. Мережковский очень почтенный писатель, высокодаровитый, но я никогда сознательно не пил из чужого стакана… Еще хоть бы сказали Уайльда, — тот в самом деле когда-то меня сильно захватил, пока я не увидел, что он просто боится черта и через Гюисманса и messe noir[96] пробирался только к исповедальной будке.[97] Эх… бумаги мало… А жаль.

Русская литературная критика рождалась вместе с русской литературой пушкинской и послепушкинской эпохи. Блестящими критиками были уже Карамзин и Жуковский, но лишь с явлением Белинского наша критика становится тем, чем она и являлась весь свой «золотой век» – не просто «умным» мнением и суждением о литературе, не просто индивидуальной или коллективной «теорией», но самим воздухом литературной жизни. Эта книга окажет несомненную помощь учащимся и педагогам в изучении школьного курса русской литературы XIX – начала XX века.
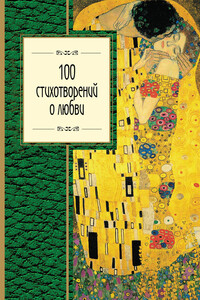
Что такое любовь? Какая она бывает? Бывает ли? Этот сборник стихотворений о любви предлагает свои ответы! Сто самых трогательных произведений, сто жемчужин творчества от великих поэтов всех времен и народов.
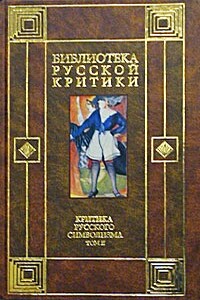
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
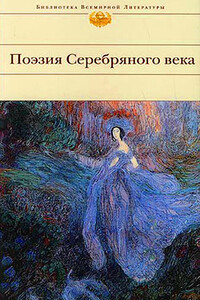
Феномен русской культуры конца ХIX – начала XX века, именуемый Серебряным веком, основан на глубинном единстве всех его творцов. Серебряный век – не только набор поэтических имен, это особое явление, представленное во всех областях духовной жизни России. Но тем не менее, когда речь заходит о Серебряном веке, то имеется в виду в первую очередь поэзия русского модернизма, состоящая главным образом из трех крупнейших поэтических направлений – символизма, акмеизма и футуризма.В настоящем издании достаточно подробно рассмотрены особенности каждого из этих литературных течений.
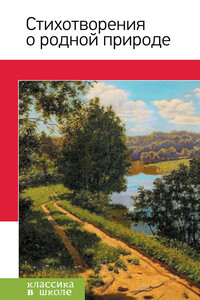
Перед вами книга из серии «Классика в школе», в которой собраны все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков.В книгу включены стихотворения русских поэтов XVIII – ХХ веков, от В. Жуковского до Н. Рубцова, которые изучают в средней школе и старших классах.
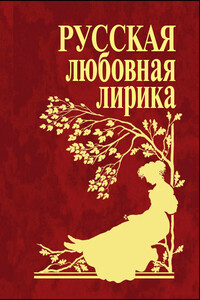
«Есть книга вечная любви…» Эти слова как нельзя лучше отражают тему сборника, в который включены лирические откровения русских поэтов второй половины XIX – первой половины XX века – от Полонского, Фета, Анненского до Блока, Есенина, Цветаевой. Бессмертные строки – о любви и ненависти, радости и печали, страсти и ревности, – как сто и двести лет назад, продолжают волновать сердца людей, вознося на вершины человеческого духа.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
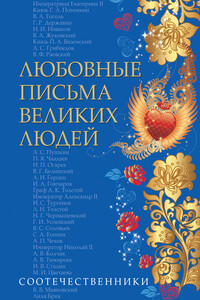
Продолжение одноименного бестселлера, сборник самых романтических и самых трогательных любовных писем, написанных нашими выдающимися соотечественниками своим возлюбленным в самые разные времена и эпохи, в самых разных жизненных обстоятельствах.В этой книге собраны самые романтичные образцы эпистолярного жанра, незаслуженно забытого в наш век электронной почты и SMS-сообщений – уникальные любовные письма российских государственных деятелей, писателей и поэтов XVIII–XX веков.Читая любовные письма наших великих соотечественников, мы понимаем, что человечество, в сущности, мало изменилось за последние две тысячи лет.

«Вечный юноша» — это документ времени, изо дня в день писавшийся известным поэтом Русского Зарубежья Юрием Софиевым (1899–1975), который в 50-е гг. вернулся на родину из Франции и поселился в Алма-Ате (Казахстан), а начат был Дневник в эмиграции, в 20-е гг., и отражает драматические события XX века, очевидцем и участником которых был Ю.Софиев. Судьба сводила его с выдающимися людьми русской культуры. Среди них — И. Бунин, А.Куприн, М.Цветаева, К.Бальмонт, Д.Мережковский, З.Гиппиус, Б.Зайцев, И.Шмелёв, Г.Иванов, В.Ходасевич, Г.Адамович, А.

В десятом томе Полного собрания сочинений публикуются письма Гоголя 1820–1835 годов.http://ruslit.traumlibrary.net.

«Письма» содержат личную переписку Ф. М.Достоевского с друзьями, знакомыми, родственниками за период с 1857 по 1865 годы.

«Письма» содержат личную переписку Ф. М.Достоевского с друзьями, знакомыми, родственниками за период с 1870 по 1875 годы.