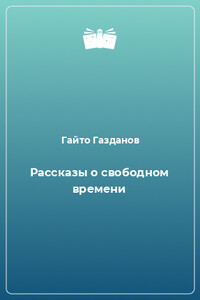Пилигримы - [20]
На следующий день, в сумерках, когда Пьер Симон неподвижно лежал в кровати, глядя пустыми глазами в высокий потолок, Валентина сидела за столиком кафе с молодым человеком в синем пальто и между двумя длительными поцелуями говорила:
— Я должна возвращаться домой, у дяди вчера ночью был удар. Может быть, он умер, и тогда я получу наследство. Но я не выйду за тебя замуж, потому что ты сволочь. Да, я не спорю, ты умеешь целоваться. Но этого недостаточно.
Вернувшись домой и войдя в комнату дяди, она увидела, что он еще не двигался. Но в его глазах уже опять появилось то выражение, которое было в них всегда, когда он смотрел на нее, — смешанное выражение бешенства и презрения. И она поняла, что ему стало лучше, потому что, когда она уходила, его глаза были безжизненными и пустыми и смотрели на нее без всякой враждебности.
Он, действительно, оправился через несколько дней. Но смысл этого предостережения был для него ясен. И он подумал тогда не без некоторого облегчения, что, вероятнее всего, он умрет не от печени и не от почек, а так же, примерно, как умер Рибо, от того, что в какую-то минуту — со счастливой невозможностью ее предвидеть, без этого длительного предсмертного томления, которого он так боялся всю жизнь, — у него мгновенно остановится сердце, и все будет кончено.
Врач предписал ему длительный покой и непременный сон после завтрака. Он послушно ложился на диван, накрывался пледом, подкладывал себе под голову подушки, но почти никогда не засыпал. И так как он не спал и ему было нечего делать, он невольно начинал размышлять о самых разных и случайных вещах. До удара этого с ним почти не бывало. И самое неприятное было то, что его рассуждения нередко касались именно отвлеченных вещей, к которым он до сих пор всегда относился с презрением. Что-то было не так, как нужно, во всей его жизни. Не то чтобы он испытывал раскаяние или вдруг поверил в загробное возмездие. И если бы ему пришлось начинать сначала, он, вероятно, опять поступал бы так же. Но главное было не это. Вопрос заключался в следующем: стоило ли это делать, стоило ли навлекать на себя презрение огромного количества так называемых порядочных людей, — на этот счет у Симона не было никаких иллюзий, — для достижения того, что у него было сейчас? Может быть, действительно, для того, чтобы в конце жизни почувствовать некоторое нравственное удовлетворение, следовало действовать во имя чего-то, одного из тех отвлеченных принципов, упоминание о которых его неизменно раздражало? Он вдруг вспомнил ту презрительную интонацию, с которой Анна ему сказала: pauvre homme![4] Тогда его привело в бессильное бешенство то, как она это произнесла, и он не задумался над тем, что она хотела сказать. Теперь, столько лет спустя, он думал именно об этом. Сенатор Пьер Симон — pauvre homme? Так вот что она хотела сказать — что он был неспособен понять ничего бескорыстного. Она презирала его за то, что непосредственно после смерти его брата, которому она изменила уже тогда, когда он лежал на своем смертном одре, когда ее преследовали два одинаково сильных чувства — печаль, которую она испытывала, глядя своими туманными глазами на труп мужа, и одновременно с этим неудержимое и почти кощунственное в эти дни тяготение к новому любовнику, — что он, Пьер, не видел и не понимал ни того, ни другого и думал в это время о денежных делах и о том, как все это, то есть измена, смерть, печаль и начало новой любви, как именно это все отразится на его бюджете. Это было единственное, что ему казалось важным, и дальше этого он не мог пойти.
Вот что значила ее интонация. Он слышал как сейчас ее голос и вспомнил с необыкновенной отчетливостью узкую улицу Авиньона, где это происходило, старый дом с темными стенами, сумерки в комнате покойного, его мертвое, небритое лицо и темные волосы Анны, когда она стояла на коленях перед его кроватью, положив голову возле его худой желтой руки с синеватыми ногтями. Он повернулся лицом к стене — и вдруг заплакал старческими слезами, только теперь смутно поняв, что все непоправимо, что смерть, вероятно, близка и, стало быть, все неправильно и ничто не имеет значения.
Он никогда не был женат. В молодости он полагал, что не может себе позволить такого расхода. Позже, когда у него было достаточно денег, — потому что он все-таки до конца рассматривал брак прежде всего как известное финансовое обязательство, нечто вроде частного и тягостного налога, — как-то не пришлось. Кроме того, он никогда не испытывал по отношению к женщинам таких сильных чувств, из-за которых стоило бы пожертвовать всеми другими соображениями.
У него не было ни жены, ни детей, и единственной его наследницей была Валентина. Когда он думал об этом, его охватывало отчаяние. Какому мерзавцу достанется в конце концов его состояние, результат сорокалетнего труда? С кем она встречается в эти поздние вечера? — она никогда не возвращалась домой раньше двух-трех часов ночи.
И вдруг это изменилось: это произошло после его удара. Она опять стала посещать лекции в университете, по вечерам она сидела дома за книгами, и он не мог понять, чем все это объяснялось. Ему начало казаться, что, может быть, он ошибался в своем суждении о ней, может быть, наследственность не так беспощадна и, может быть, вообще все это завершится каким-то благополучным концом.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
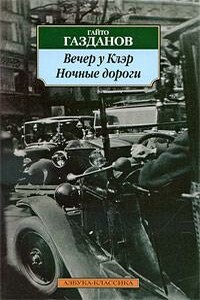
"Вечер у Клэр" - воспоминания русского эмигранта о детстве и отрочестве, гражданской войне и российской смуте, в которые он оказался втянут, будучи шестнадцатилетним подростком, и о его искренней и нежной любви к француженке Клэр, любовь к которой он пронес через всю свою жизнь.

Этот рассказ Газданова вызвал наибольшее число откликов при публикации. Рецензируя первый номер журнала «Числа», Ходасевич отмечает, что Газданов «изобретательнее, живописнее Фельзена, в нем больше блеска». Савельев признает рассказ «самым талантливым» во всем журнале, но, вместе с тем, высказывает пожелание, чтобы Газданов начал писать «без Пруста». Атмосфера изолированности человека в мире реализуется в образной ткани повествования, в изображении персонажей, между которыми, несмотря на их усилия, отсутствуют живые человеческие связи.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В обзоре „Современные записки“ Николай Андреев писал: «Лишь относительно удачно „Счастье“ Гайто Газданова. Прекрасно начатый, отличный во многих своих частях, обнаруживающий глубину и силу авторского дыхания, как всегда у Газданова, полный психологического своеобразия, рассказ этот оказался растянутым, лишенным единства, перегруженным проблематикой, риторикой. Газданов отказался на этот раз от непрерывного повествования, столь удающейся ему плавной неторопливости рассказа. Он, однако, не перешел и к какой-либо конструктивности.

Соседка по пансиону в Каннах сидела всегда за отдельным столиком и была неизменно сосредоточена, даже мрачна. После утреннего кофе она уходила и возвращалась к вечеру.

Алексей Алексеевич Луговой (настоящая фамилия Тихонов; 1853–1914) — русский прозаик, драматург, поэт.Повесть «Девичье поле», 1909 г.

«Лейкин принадлежит к числу писателей, знакомство с которыми весьма полезно для лиц, желающих иметь правильное понятие о бытовой стороне русской жизни… Это материал, имеющий скорее этнографическую, нежели беллетристическую ценность…»М. Е. Салтыков-Щедрин.

«Сон – существо таинственное и внемерное, с длинным пятнистым хвостом и с мягкими белыми лапами. Он налег всей своей бестелесностью на Савельева и задушил его. И Савельеву было хорошо, пока он спал…».