Певец империи и свободы - [2]
Гроза 12 года глубоко взволновала царскосельский лицей. Для Пушкина она навсегда осталась источником вдохновения. Но замечательно, что за ней он прозревал век еще более могучий, которого последними отпрысками были герои 12 года. Слагая оды Кутузову, Барклаю де Толли, он их видит на фоне восемнадцатого века. Таков же для него и генерал Раевский — «свидетель екатерининского века» прежде всего, и уже потом «памятник 12 года». Пушкин никогда не терял случая собирать живые воспоминания прошлого века — века славы — из уст его последних представителей. Таковы для него старый Раевский, кн. Юсупов, Мордвинов, фрейлина Н. К. Загряжская, разговоры с которой он тщательно записывал. Нахлынувшие в молодости революционные настроения нисколько не поколебали у Пушкина этого отношения к империи — не только в прошлом ее великолепии, но и в живой ее традиции, в настоящей борьбе за экспансию. Чрезвычайно интересно изучать то, что можно назвать имперскими концовками в его ранних, так назыв. байронических поэмах: в «Кавказском пленнике», в «Цыганах» — там, где мы их менее всего ожидаем. Казалось бы, на Кавказе сочувствие мятежного поэта должны были привлечь вольнолюбивые горцы, отстаивавшие свою свободу от наступающей России. Ведь для пленника в жизни нет ничего выше свободы:
Байрон — и Вальтер Скотт — конечно, встали бы на сторону горцев. Но Пушкин не мог изменить России. Его сочувствие раздваивается между черкесами и казаками. Чтобы примирить свое сердце с имперским сознанием, — свободу со славой, — он делает русского пленником и подчеркивает жестокость диких сынов Кавказа. Тогда казацкие линии и русские штыки становятся сами символом свободы:
Не довольствуясь этим завершающим аккордом, поэт слагает в Эпилоге гимн завоевателям Кавказа — Цицианову, Котляревскому, Ермолову, не щадя жестоких красок, не смягчая исторической правды. Особенно ужасным встает Котляревский, — «бич Кавказа». Стихи, ему посвященные:
вызвали в свое время гуманные и справедливые замечания кн. Вяземского: «Мне жаль, что Пушкин окровавил стихи своей повести… Гимн поэта никогда не должен быть славословием резни».
Здесь, несомненно, налицо погрешность против нравственного, а, следовательно, и художественного такта. Это юношеское увлечение насилием в гимне империи находит свою параллель в оде «Вольность» — гимне свободе.
Зато в зрелых, почти совершенных «Цыганах» «имперская концовка» дает настоящее разрешение пронесшейся буре губительных страстей. Над личной трагедией проносится, как примиряющее и возвышающее воспоминание:
В «Полтаве», в «Медном Всаднике» тема Империи уже не концовка и не орнамент; она составляет самую душу поэм: заглавия об этом свидетельствуют. В «Полтаве» Петр, истинный ее герой, подавляет своим грозным величием трагических любовников:
Этот памятник, с теми же аполлиническими и грозными чертами императора, оживает и в петербургской поэме. В «Медном Всаднике» не два действующих лица, как часто утверждали, давая им символическое значение: Петр и Евгений, государство и личность. Из-за них явственно встает образ третьей, безликой силы: это стихия разбушевавшейся Невы, их общий враг, изображению которого посвящена большая часть поэмы. И какое это изображение! Нева кажется почти живой, одушевленной, злой силой:
Продолжая традиционную символику — законную, ибо Всадник, несомненно, символ Империи, как назвать эту третью силу — стихии? Ясно, что это тот самый змей, которого топчет под своими копытами всадник Фальконета. Но кто он, или что он? Теперь, в свете торжествующей революции, слишком соблазнительно увидеть в этой стихии революцию, обуздываемую царем. Но о какой стихийной революции мог думать Пушкин? Уж, конечно, не стихийным было 14 декабря. Пугачевщина скорее напоминает разлив волн. Но и это толкование было бы слишком узким. Для Фальконета, как для людей XVIII века, змей означал начало тьмы и косности, с которым борется Петр: скорее всего старую, московскую Русь. Мы можем расширить это понимание: змей или наводнение — это все иррациональное, слепое в русской жизни, что, обуздываемое Аполлоном, всегда готово прорваться: в сектантстве, в нигилизме, в черносотенстве, бунте. Русская жизнь и русская государственность — непрерывное и мучительное преодоление хаоса началом разума и воли. В этом и заключается для Пушкина смысл империи. А Евгений, несчастная жертва борьбы двух начал русской жизни, это не личность, а всего лишь обыватель, гибнущий под копытом коня империи или в волнах революции.
Конечно, и Всадник империи имеет в себе нечто демоническое, бесчеловечное:
Называя его «кумиром», поэт подчеркивает языческую природу государства. Пусть ужасный лик Петра в «Полтаве» божествен:
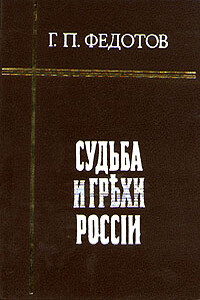
Федотов Георгий Петрович(1886 - 1951 гг.) — выдающийся русский мыслитель и историк. Его научные интересы были сосредоточенны на средневековом и древнерусском христианстве. Был близок к Бердяеву и св. Марии (Скобцовой). Защитник свободы и честности в Церкви, мысли, обществе. Федотов Г.П., Судьба и грехи России /избранные статьи по философии русской истории и культуры.
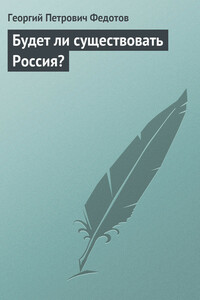
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сейчас нет мучительнее вопроса, чем вопрос о свободе в России. Не в том, конечно, смысле, существует ли она в СССР, —об этом могут задумываться только иностранцы, и то слишком невежественные. Но в том, возможно ли ее возрождение там после победоносной войны, мы думаем все сейчас — и искренние демократы, и полуфашистские попутчики...

Настоящие критические замечания имеют в виду концепцию "Легенды об антихристе", предлагаемую в "Трех разговорах", В. Соловьева: точнее, одну из сторон этой концепции, весьма существенную для Соловьева последнего периода и для эсхатологии новейшего времени.

Книга выдающегося русского историка и мыслителя Георгия Петровича Федотова (1886-1951) «Стихи духовные» занимает особое положение в научной литературе о русских духовных стихах - своеобразном жанре устного творчества, возникшем в результате народной переработки текстов высокой христианской культуры. Предмет книги много шире, чем тот материал, на котором она основана. Это исключительное по тщательности исследование содержательной, мировоззренческой стороны духовных стихов дает полную картину русской версии православия.Г.
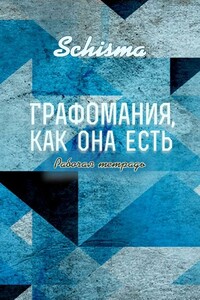
«Те, кто читают мой журнал давно, знают, что первые два года я уделяла очень пристальное внимание графоманам — молодёжи, игравшей на сетевых литературных конкурсах и пытавшейся «выбиться в писатели». Многие спрашивали меня, а на что я, собственно, рассчитывала, когда пыталась наладить с ними отношения: вроде бы дилетанты не самого высокого уровня развития, а порой и профаны, плохо владеющие русским языком, не отличающие метафору от склонения, а падеж от эпиграммы. Мне казалось, что косвенным образом я уже неоднократно ответила на этот вопрос, но теперь отвечу на него прямо, поскольку этого требует контекст: я надеялась, что этих людей интересует (или как минимум должен заинтересовать) собственно литературный процесс и что с ними можно будет пообщаться на темы, которые интересны мне самой.

Эта книга рассказывает о том, как на протяжении человеческой истории появилась и параллельно с научными и техническими достижениями цивилизации жила и изменялась в творениях писателей-фантастов разных времён и народов дерзкая мысль о полётах людей за пределы родной Земли, которая подготовила в итоге реальный выход человека в космос. Это необычное и увлекательное путешествие в обозримо далёкое прошлое, обращённое в необозримо далёкое будущее. В ней последовательно передаётся краткое содержание более 150 фантастических произведений, а за основу изложения берутся способы и мотивы, избранные авторами в качестве главных критериев отбора вымышленных космических путешествий.

«Божественная комедия» Данте Алигьери — мистика или реальность? Можно ли по её тексту определить время и место действия, отождествить её персонажей с реальными людьми, определить, кто скрывается под именами Данте, Беатриче, Вергилий? Тщательный и придирчивый литературно-исторический анализ текста показывает, что это реально возможно. Сам поэт, желая, чтобы его бессмертное произведение было прочитано, оставил огромное количество указаний на это.
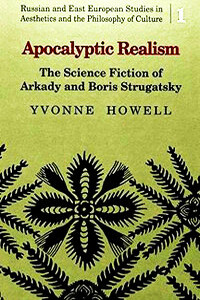
Данное исследование частично выполняет задачу восстановления баланса между значимостью творчества Стругацких для современной российской культуры и недополучением им литературоведческого внимания. Оно, впрочем, не предлагает общего анализа места произведений Стругацких в интернациональной научной фантастике. Это исследование скорее рассматривает творчество Стругацких в контексте их собственного литературного и культурного окружения.
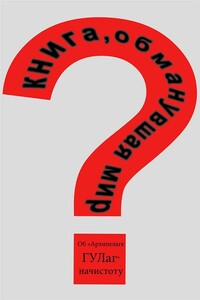
Проблема фальсификации истории России XX в. многогранна, и к ней, по убеждению инициаторов и авторов сборника, самое непосредственное отношение имеет известная книга А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В сборнике представлены статьи и материалы, убедительно доказывающие, что «главная» книга Солженицына, признанная «самым влиятельным текстом» своего времени, на самом деле содержит огромное количество грубейших концептуальных и фактологических натяжек, способствовавших созданию крайне негативного образа нашей страны.
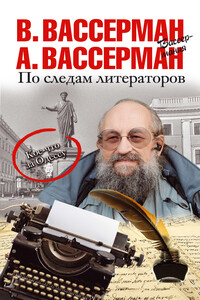
Особая творческая атмосфера – та черта, без которой невозможно представить удивительный город Одессу. Этот город оставляет свой неповторимый отпечаток и на тех, кто тут родился, и на тех, кто провёл здесь лишь пару месяцев, а оставил след на столетия. Одесского обаяния хватит на преодоление любых исторических превратностей. Перед вами, дорогой читатель, книга, рассказывающая удивительную историю о талантливых людях, попавших под влияние Одессы – этой «Жемчужины-у-Моря». Среди этих счастливчиков Пушкин и Гоголь, Бунин и Бабель, Корней Чуковский – разные и невероятно талантливые писатели дышали морским воздухом, любили, творили.
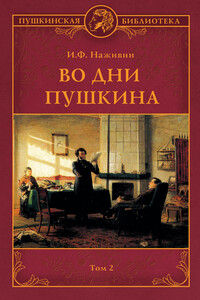
К 180-летию трагической гибели величайшего русского поэта А.С. Пушкина издательство «Вече» приурочивает выпуск серии «Пушкинская библиотека», в которую войдут яркие книги о жизненном пути и творческом подвиге поэта, прежде всего романы и биографические повествования. Некоторые из них были написаны еще до революции, другие созданы авторами в эмиграции, третьи – совсем недавно. Серию открывает двухтомное сочинение известного русского писателя-эмигранта Ивана Федоровича Наживина (1874–1940). Роман рассказывает о зрелых годах жизни Пушкина – от Михайловской ссылки до трагической гибели на дуэли.
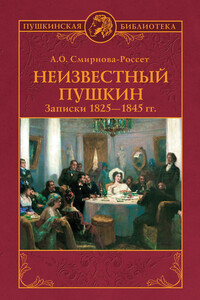
Эта книга впервые была издана в журнале «Северный вестник» в 1894 г. под названием «Записки А.О. Смирновой, урожденной Россет (с 1825 по 1845 г.)». Ее подготовила Ольга Николаевна Смирнова – дочь фрейлины русского императорского двора А.О. Смирновой-Россет, которая была другом и собеседником А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова. Сразу же после выхода, книга вызвала большой интерес у читателей, затем начались вокруг нее споры, а в советское время книга фактически оказалась под запретом. В современной пушкинистике ее обходят молчанием, и ни одно серьезное научное издание не ссылается на нее.
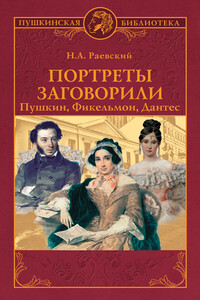
Чем лучше мы знаем жизнь Пушкина, тем глубже и точнее понимаем смысл его творений. Вот главная причина, которая уже в течение нескольких поколений побуждает исследователей со всей тщательностью изучать биографию поэта. Не праздное любопытство, не желание умножить число анекдотических рассказов о Пушкине заставляет их обращать внимание и на такие факты, которые могут показаться малозначительными, ненужными, а иногда даже обидными для его памяти. В жизни Пушкина малозначительного нет. Мелкая подробность позволяет порой по-новому понять и оценить всем известный стих или строчку пушкинской прозы.
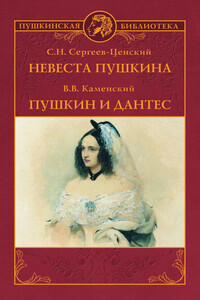
В очередную книгу серии включены два романа о важных событиях в жизни великого поэта. Роман известного советского писателя С.Н. Сергеева-Ценского (1875–1958), вышедший в 1933 г., посвящен истории знакомства и женитьбы Пушкина на Наталье Николаевне Гончаровой. Роман русского поэта-футуриста В.В. Каменского (1884–1961), изданный в 1928 г., рассказывает о событиях, приведших к трагической дуэли между великим русским поэтом Александром Пушкиным и поручиком бароном Жоржем де Геккерном-Дантесом.