Петр II - [40]
Когда стало ясно, что надежды на положительный ответ патриархов стали эфемерными, Екатерина занялась поисками других женихов для своей дочери. Из желающих претендовать на руку и сердце Елизаветы императрица избрала двоюродного брата герцога Голштинского (супруга ее старшей дочери Анны) епископа Любского Карла.
При этом двор проигнорировал новое предостережение Синода — о том, что, согласно догматам Православной церкви, брак «двух двоюродных братьев с двумя сестрами не может быть допущен». Шансы отпраздновать свадьбу были велики.
Жених прибыл в Петербург, был обласкан императрицей, награжден орденом Андрея Первозванного. Будущая теща удостоила своим присутствием устроенный женихом бал, продолжавшийся до семи утра. В декабре 1726 года Карл обратился к императрице с письмом, переведенным на русский тяжеловесным слогом, в котором высказал желание сочетаться браком с Елизаветой Петровной: «…Я с моей стороны не знал себе в свете вящего счастия желать, как чтоб и я удостоен быть мог от вашего императорского величества вторым голстинским сыном в вашу императорскую высокую фамилию воспряту быть… Якоже и я оставить не могу вашего императорского величества сим всепокорнейше просить ко мне высокую свою милость явить, высокопомянутую принцессу, дщерь свою, ее императорское высочество мне в законную супругу матернею высочайшею милостию позволить и даровать». Далее следовало обязательство: «что я во всю свою жизнь готов буду за ваше императорское величество, императорскую фамилию и за интерес Российского государства и последнюю каплю крови радостно отдать».[81]
Чувства и взаимную приязнь при заключении подобных браков, как правило, в расчет никто не принимал. Но в данном случае Елизавета Петровна воспылала к жениху самой нежной любовью. Уже был составлен брачный контракт, но тут случилось непредвиденное — жених скоропостижно скончался от оспы.
Невеста искренне оплакивала утрату. Смерть нареченного зятя серьезно огорчила и ее мать.
Екатерина во что бы то ни стало хотела иметь наследника. Надежды на потомство от хилого герцога Голштинского были слабыми — со времени свадьбы прошло более года, а никаких признаков беременности старшая дочь Екатерины Анна не обнаруживала. Промедление с замужеством Елизаветы тоже было сопряжено с угрозой лишиться потомства — дочь к восемнадцати годам отличалась несколько излишней, не по годам, полнотой, и, по представлениям того времени, дальнейшее промедление с браком грозило сделать ее неспособной к рождению детей.[82]
В мае 1727 года, после смерти императрицы Екатерины, Елизавета Петровна осталась круглой сиротой. Предоставленная самой себе, лишенная родительского попечения, она предалась разгулу и оказалась неразборчивой в выборе поклонников. Именно к лету 1727 года относится увлечение Петра II своей теткой.
Первые сведения на этот счет можно почерпнуть в депеше Лефорта от 14 июля: «Царь оказывает много привязанности к великой княжне Елизавете, что дает повод к спору между им и сестрою».[83] 19 августа того же года другой дипломат Мардефельд доносил: «Елизавета Петровна пользуется глубоким уважением императора, ибо он до того свыкся с ее приятным общением, что почти не может быть без нее. Уважение это, естественно, должно возрастать, ибо эта великая княжна обладает, кроме чрезвычайной красоты, такими душевными качествами, которые делают ее поклонниками всех».
Возможность общения с цесаревной Петр Алексеевич получил во время болезни Меншикова, когда надзор над ним со стороны самого князя и его семьи ослаб, и император получил возможность покидать дворец светлейшего и встречаться с лицами, не относившимися к его креатуре.
Веселая и раскованная, цесаревна увлекла племянника не одними своими женскими прелестями, но самим образом жизни. Она любила танцевать, любила охоту, верховую езду — все это пришлось по душе и Петру. В отличие от Меншикова Елизавета не лезла к нему с нравоучениями, не стремилась ограничить его волю, заставить его заниматься делами. Эту черту характера цесаревны подметил герцог де Лириа. «Принцесса Елизавета не думает ни о чем, кроме удовольствия, и не решается говорить царю ни о чем», — писал он в июне 1728 года.[84]
9 сентября 1727 года, в канун ареста Меншикова, прусский посол Мардефельд докладывал своему правительству: «Император в Петергофе до того отличил великую княжну Елизавету Петровну, что начинает быть с нею неразлучным».[85] 8 ноября того же года Маньян сообщал уже не о привязанности, а о настоящей страсти двенадцатилетнего Петра: «Страсть царя к принцессе Елизавете не удалось заглушить, как думали раньше, напротив, она дошла до того, что причиняет теперь действительно министерству очень сильное беспокойство. Царь до того отдался своей склонности с желанием своим, что немало, кажется, затруднены, каким путем предупредить последствия подобной страсти, и хотя этому молодому государю всего двенадцать лет, тем не менее Остерман заметил, что большой риск оставлять его наедине с принцессой Елизаветой».
Верховный тайный совет даже решил, чтобы один из членов совета попеременно сопровождал царя. Однако роль соглядатаев оказалась не по душе Головкину и Апраксину. Они заявили Петру о своем намерении удалиться от двора, «если он не изменит вскоре своего отношения к принцессе Елизавете».
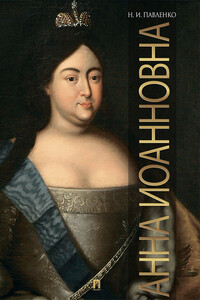
Книга известного историка и писателя Николая Павленко посвящена десятилетнему правлению (1730–1740 гг.) императрицы Анны Иоанновны. Автор талантливо и скрупулезно описывает этот период «немецкого засилья» в России через биографии главных действующих лиц эпохи — Бирона, Остермана, Миниха, Волынского и других. Для более точного воссоздания образа императрицы и ее сподвижников писатель привлекает большое количество документальных источников, включая архивные материалы, многие из которых приводятся впервые.

Книга посвящена крупному политическому и военному деятелю России конца XVII— первой четверти XVIII в. Жизнь и деятельность Петра I рассматриваются на широком фоне социально-экономической и общественно-политической жизни, в неразрывной связи с решением стоящих перед страной задач. Привлекая большой фактический материал, автор воссоздает колоритную, сложную и противоречивую фигуру человека, сыгравшего значительную роль в превращении России в одно из крупнейших и могущественных государств мира. В то же время автор убедительно показывает классовую направленность политики и всей деятельности Петра I, беспощадную эксплуатацию трудящихся масс, трудом которых в конечном счете и были достигнуты все результаты преобразований.
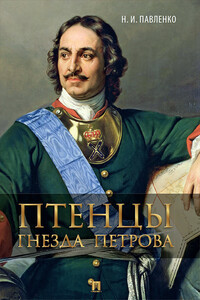
Знаменитая книга доктора исторических наук Н. И. Павленко является продолжением его трудов «Петр I», «А. Д. Меншиков». Внутри вы найдете исторические портреты четырех основных сподвижников Петра I: Б. П. Шереметева, первого боевого фельдмаршала, П. А. Толстого, государственного деятеля и дипломата, А. В. Макарова, кабинет-секретаря императора, и С. Л. Владиславич-Рагузинского, выходца из Сербии, тайного агента России и предпринимателя. Все они по-своему внесли неоценимый вклад в становление России. Книга собрана автором на основе архивных материалов.

Несчастный сын Великого Петра не относится к числу выдающихся деятелей русской истории. Однако его трагическая судьба — он умер, не выдержав пыток, в застенках Петропавловской крепости — ярко высвечивает и характер его отца, царя-преобразователя Петра I, и нравы той жестокой эпохи, в которую ему довелось жить. Жизнь и смерть царевича Алексея Петровича стали темой новой книги старейшего автора серии «Жизнь замечательных людей», признанного знатока Петровской эпохи и классика историко-биографического жанра Николая Ивановича Павленко.
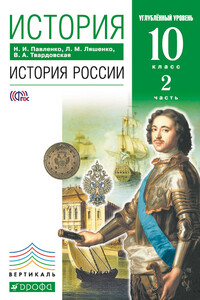
Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего образования и предназначен для изучения истории на углублённом уровне. Обширный фактический и теоретический материал в совокупности с методическим аппаратом позволяет учащимся углубить знания по истории России, полученные в 6—9 классах.Книга является продолжением учебника «История. История России. 10 класс. Углублённый уровень. Ч. 1» (авторы Н. И. Павленко, И. Л. Андреев. М., Дрофа).Учебник рекомендован к изданию Министерством образования и науки Российской Федерации и включён в Федеральный перечень.

Книга доктора исторических наук, члена Союза писателей Н. И. Павленко не только воссоздает объективный образ занимавшего русский трон 186 дней императора Петра III, но и является откликом на попытки некоторых современных исследователей бездоказательно опровергнуть в погоне за оригинальностью те оценки личности «русского принца», которые сформировались многими поколениями авторитетных историков.

Эта книга – увлекательный рассказ о насыщенной, интересной жизни незаурядного человека в сложные времена застоя, катастрофы и возрождения российского государства, о его участии в исторических событиях, в культурной жизни страны, о встречах с известными людьми, о уже забываемых парадоксах быта… Но это не просто книга воспоминаний. В ней и яркие полемические рассуждения ученого по жгучим вопросам нашего бытия: причины социальных потрясений, выбор пути развития России, воспитание личности. Написанная легко, зачастую с иронией, она представляет несомненный интерес для читателей.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Флора Павловна Ясиновская (Литвинова) родилась 22 июля 1918 года. Физиолог, кандидат биологических наук, многолетний сотрудник электрофизиологической лаборатории Боткинской больницы, а затем Кардиоцентра Академии медицинских наук, автор ряда работ, посвященных физиологии сердца и кровообращения. В начале Великой Отечественной войны Флора Павловна после краткого участия в ополчении была эвакуирована вместе с маленький сыном в Куйбышев, где началась ее дружба с Д.Д. Шостаковичем и его семьей. Дружба с этой семьей продолжается долгие годы. После ареста в 1968 году сына, известного правозащитника Павла Литвинова, за участие в демонстрации против советского вторжения в Чехословакию Флора Павловна включается в правозащитное движение, активно участвует в сборе средств и в организации помощи политзаключенным и их семьям.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.