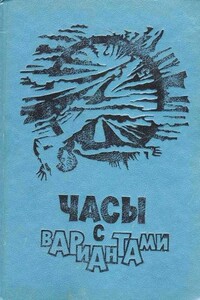Пенаты - [25]
Природе, разумеется, чихать на нравственность, у нее свои категории, свой язык, свои проблемы; однако мы (люди вообще, все люди, а люди науки в особенности) безнравственны настолько, что это даже на языке Природы как-то называется; ее от нас тошнит, выражаясь нашим языком.
Начав с тени похмелья, ею, о эллипсис, и заканчиваю свою эпистолу — в ожидании, кстати, ответной; Вы разучились писать? я не возражаю против машинописного экземпляра, надиктуйте Женечке. Не такой уж я распоследний автор из ныне живущих, чтобы Вы могли позволить себе гнушаться... и т.п.
Пожалуй, мне не следует подолгу сиживать у залива. Залив живет своей жизнью, самодостаточен, совершенно ко мне равнодушен, я чувствую свою отторженность, отверженность перед ликом мирового океана, я умаляюсь до габаритов песчинки, маска бессмертия (любимый аксессуар всякого пишущего, от гения до графомана) падает с лица моего, я становлюсь более чем смертен: перестаю существовать. Посему впредь буду больше времени проводить в лесу, в палисаднике Дома творчества и в каких-нибудь гостях у кого угодно. Предадимся — как называется, в отличие от клаустрофобии, боязнь разомкнутых пространств? Напишите мне незнакомое словечко, редактор! Я ведь помню пресловутого гражданина, переходившего периодически Кировский мост на карачках, — он сим синдромом и страдал. Теперь я его не просто помню, я его понимаю. Какая колоссальная дистанция между глаголами «помнить» и «понимать»!
Но я увлекся. Графоманские навыки берут свое. По счастью, лист бумаги заполнен, — и я откланиваюсь, а то рука потянется к следующему: где же обещанная краткость? сестра таланта? бедная родственница? Ответьте мне, прошу Вас, а то я обижусь.
Ваш Т.
Загорая, Гаджиев снимал и надевал парусиновую кепку, и подставлял солнцу круглую, подобную бильярдному шару, энергично пролепленную голову, и прикрывал ее маленьким кепочным тентом. Начав лысеть, он прекратил лелеять оставшиеся волосы («лысые локоны», как он выражался), а стал стричься под Котовского, наголо. Короткие колючие усы, торчащие над верхней губой, придавали ему сходство с тюленем; сходство усиливалось при купании и заплыве; отчасти поэтому Гаджиев избегал купании, зато старался загореть; загоревшая обнаженная голова становилась золотистой.
Чтобы не обгореть и не перегреться, каждые полчаса тюлень в парусиновой кепке отправлялся в тень, переселялся в зону прибрежных сосен. Пляж зонировался полосами: полоса мокрого песка, узкая полоска камешков и раковин, полосы сухого песка с межами сухого тростника, водорослей и раковин, высушенных солнцем, полоса голубовато-зеленой осоки, полоса травы, прибрежные коренастые, невысокие, кряжистые сосны с узловатыми ветвями, извилистыми свилеватыми стволами и ветвями, привыкшие противостоять ветрам, столь отличающиеся от стройных прямолинейных струн сосен корабельных, легко колеблемых порывами ветра, чьи рощи и леса располагались выше, дальше от залива, образуя, наконец, кордоны лесничеств, скрывающие в потаенных чащобах своих остатки линии Маннергейма, одну из маннергеймовых дач (их было несколько, дивных лесных особнячков в стиле «модерн», отличавшихся цветом и убранством, проект тот же: Белая Дача, Красная Дача...), россыпи гильз, мины и гранаты, кое-как прикрытые землей, лисьи норы, лосиные следы, клондайки сморчков, строчков, опят, морошки, горькушек, статные стебли лесных орхидей, болотца с камышом и непочатые, нетронутые пласты лесной тишины.
Перейдя в тень, Гаджиев всякий раз оказывался рядом с Ларой, тоже не желающей загореть, — так сказать, теоретически, она и не загорала, не приставал к ней загар. Длинноногая Лара в темно-синих с красной каемочкой лифчике и трусиках, ситцевом платочке или соломенной шляпе, с неизменной коралловой ниткой на шее, сосредоточенно читала, что не мешало ей, поворачиваясь на бок, тут же впадать в рассеянность и вперять в подобный океанскому горизонт невидящий взор; да и что там было видеть, на горизонте-то? В отличие от густонаселенного плавсредствами Черного моря, Маркизова Лужа редко показывала зрителям пароходный дымок или парус; постоянной меткой масштаба служил разве что Кронштадт, то видимый, то невидимый, являющий оку купол своего собора, почти гипотетического сооружения, доступного разве воображению, потому как Кронштадт — город закрытый, и собора въяве никто не видел.
— Какую книжку читаете, Ларочка? — спросил Гаджиев. — Роман, надо полагать?
— «Войну и мир».
— Своею волею? По программе учебной? читаете? перечитываете?
— По программе читаю, однако добровольно, — отвечала Лара, улыбаясь.
— Нравится?
— Конечно.
— Война больше нравится или мир?
— Война не нравится, я даже пропускаю иногда кусочки, — честно созналась Лара, — а мир очень.
— Когда я был молод, — сказал Гаджиев, проводя ладонью по круглой голове, — я влюблялся в литературных героев. Есть ли такая привычка у вашего поколения? Или сие устарело и ушло в прошлое?
— Есть. Я всегда влюблялась в героев книг. В виконта де Бражелона, в графа Монте-Кристо.
Гаджиев залюбовался ее золотистыми, чуть выгорающими на солнце длинными волосами.

Вы не пробовали близко пообщаться с симпатичным, но малознакомым котом?Качественные царапины и море зеленки гарантированы. И это – в лучшем случае.Но кошки из этого сборника способны на большее!Кот-великан Жоржик, кошачий царь Коломны. Кот-призрак, способный легким движением хвоста решать межгалактические конфликты. Кот-домовой, поучающий хозяина. Кошка-фантом, предсказывающая сходы лавин в горах. Рыжий кот, живущий на Крыше Мира. И кот Рыжик-Бандит, который иногда превращается в тигра.А ещё здесь есть легенды кошек Эрмитажа и сказки народа миу.Но самое главное – в этих рассказах есть надежда на то, что люди когда-нибудь поумнеют и наконец-то смогут понять кошек…
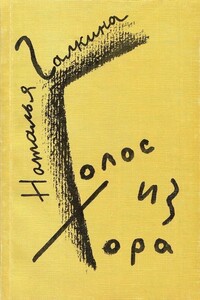
Особенность и своеобразие поэзии ленинградки Натальи Галкиной — тяготение к философско-фантастическим сюжетам, нередким в современной прозе, но не совсем обычным в поэзии. Ей удаются эти сюжеты, в них затрагиваются существенные вопросы бытия и передается ощущение загадочности жизни, бесконечной перевоплощаемости ее вечных основ. Интересна языковая ткань ее поэзии, широко вобравшей современную разговорную речь, высокую книжность и фольклорную стихию. © Издательство «Советский писатель», 1989 г.

В состав двенадцатого поэтического сборника петербургского автора Натальи Галкиной входят новые стихи, поэма «Дом», переводы и своеобразное «избранное» из одиннадцати книг («Горожанка», «Зал ожидания», «Оккервиль», «Голос из хора», «Милый и дорогая», «Святки», «Погода на вчера», «Мингер», «Скрытые реки», «Открытка из Хлынова» и «Рыцарь на роликах»).
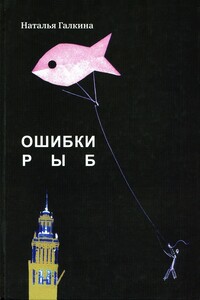
Наталья Галкина, автор одиннадцати поэтических и четырех прозаических сборников, в своеобразном творчестве которой реальность и фантасмагория образуют единый мир, давно снискала любовь широкого круга читателей. В состав книги входят: «Ошибки рыб» — «Повествование в историях», маленький роман «Пишите письма» и новые рассказы. © Галкина Н., текст, 2008 © Ковенчук Г., обложка, 2008 © Раппопорт А., фото, 2008.
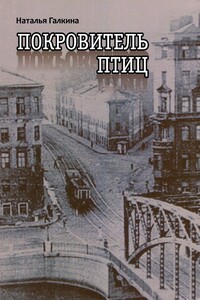
Роман «Покровитель птиц» петербурженки Натальи Галкиной (автора шести прозаических и четырнадцати поэтических книг) — своеобразное жизнеописание композитора Бориса Клюзнера. В романе об удивительной его музыке и о нем самом говорят Вениамин Баснер, Владимир Британишский, Валерий Гаврилин, Геннадий Гор, Даниил Гранин, Софья Губайдулина, Георгий Краснов-Лапин, Сергей Слонимский, Борис Тищенко, Константин Учитель, Джабраил Хаупа, Елена Чегурова, Нина Чечулина. В тексте переплетаются нити документальной прозы, фэнтези, магического реализма; на улицах Петербурга встречаются вымышленные персонажи и известные люди; струят воды свои Волга детства героя, Фонтанка с каналом Грибоедова дней юности, стиксы военных лет (через которые наводил переправы и мосты строительный клюзнеровский штрафбат), ручьи Комарова, скрытые реки.

Действие книги известного болгарского прозаика Кирилла Апостолова развивается неторопливо, многопланово. Внимание автора сосредоточено на воссоздании жизни Болгарии шестидесятых годов, когда и в нашей стране, и в братских странах, строящих социализм, наметились черты перестройки.Проблемы, исследуемые писателем, актуальны и сейчас: это и способы управления социалистическим хозяйством, и роль председателя в сельском трудовом коллективе, и поиски нового подхода к решению нравственных проблем.Природа в произведениях К. Апостолова — не пейзажный фон, а та материя, из которой произрастают люди, из которой они черпают силу и красоту.

Что происходит с Лили, Журка не может взять в толк. «Мог бы додуматься собственным умом», — отвечает она на прямой вопрос. А ведь раньше ничего не скрывала, секретов меж ними не было, оба были прямы и честны. Как-то эта таинственность связана со смешными юбками и неудобными туфлями, которые Лили вдруг взялась носить, но как именно — Журке невдомёк.Главным героям Кристиана Гречо по тринадцать. Они чувствуют, что с детством вот-вот придётся распрощаться, но ещё не понимают, какой окажется новая, подростковая жизнь.

Ирина Ефимова – автор нескольких сборников стихов и прозы, публиковалась в периодических изданиях. В данной книге представлено «Избранное» – повесть-хроника, рассказы, поэмы и переводы с немецкого языка сонетов Р.-М.Рильке.

Сборник «Озеро стихий» включает в себя следующие рассказы: «Храбрый страус», «Закат», «Что волнует зебр?», «Озеро стихий» и «Ценности жизни». В этих рассказах описывается жизнь человека, его счастливые дни или же переживания. Помимо человеческого бытия в сборнике отображается животный мир и его загадки.Небольшие истории, похожие на притчи, – о людях, о зверях – повествуют о самых нужных и важных человеческих качествах. О доброте, храбрости и, конечно, дружбе и взаимной поддержке. Их герои радуются, грустят и дарят читателю светлую улыбку.

Установленный в России начиная с 1991 года господином Ельциным единоличный режим правления страной, лишивший граждан основных экономических, а также социальных прав и свобод, приобрел черты, характерные для организованного преступного сообщества.Причины этого явления и его последствия можно понять, проследив на страницах романа «Выбор» историю простых граждан нашей страны на отрезке времени с 1989-го по 1996 год.Воспитанные советским режимом в духе коллективизма граждане и в мыслях не допускали, что средства массовой информации, подконтрольные государству, могут бесстыдно лгать.В таких условиях простому человеку надлежало сделать свой выбор: остаться приверженным идеалам добра и справедливости или пополнить новоявленную стаю, где «человек человеку – волк».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.