Павлов - [9]
Жизнь между тем шла своим чередом. Павлов женился, и прямые обязанности его брата перешли к жене. Теперь она покупала ему обувь, одежду, белье, вела дела с парикмахером, с прачкой, с кухаркой. Увидев на ученом новую вещь, сотрудники не без лукавства спрашивали.
— Что это, Иван Петрович, на вас? Неужели обновка?
Он смущенно оглядывался и виновато отвечал:
— Да, обновка. Заставили купить…
У него появилась новая слабость — коллекционировать. Он собирает марки, растения, картины, бабочек. Профессор утверждает, что мотыльков собирает для сына, но тот, кто видел его с сачком подкрадывающимся к бабочке, надеясь ласковым шопотом удержать ее на месте, никогда не сомневался, для кого это делается. Нужны ли лучшие доказательства: весть о том, что он забаллотирован и кафедра физиологии по конкурсу отдана другому, почти не тронула его; пред ним стояла задача снять обильный урожай бабочек, куколки которых завершали свое превращение, — до кафедры ли в такой момент!
Не угасали и старые влечения. Попрежнему его влекло к физическому труду, особенно весною и летом. Не помогали игры в городки, купанье, велосипедное катанье, — руки тянулись к лопате, к кирке. Он чистил дорожки в саду, вскапывал клумбы, трудился так, что ночью не спал от усталости. «Удовольствие, испытываемое мною при физическом труде, — должен, наконец, он сознаться, — я не могу сравнить с трудом умственным, хотя я все время живу им. Очевидно, это оттого, что мой прадед еще сам пахал землю…»
В 1935 году он повторяет эту мысль в письме вседонецкому совещанию шахтеров.
«Уважаемые горняки! — пишет он. — Всю мою жизнь я любил и люблю умственный труд и физический и, пожалуй, даже больше второй. А особенно чувствовал себя удовлетворенным, когда в последний вносил какую-нибудь хорошую догадку, т. е. соединял голову с руками.
Вы попали на этот путь. От души желаю вам и дальше двигаться по этой единственно обеспечивающее счастье человека дороге…
С искренним приветом И. Павлов».
Таковы были слабости и страсти его, они не сдавались. Оперировал он правой и левой, рюхи бросал, играя в городки, только левой…
Пока в лаборатории насаждался новый метод и молодые люди готовили, фистулы и свищи, Павлов — командир маленькой армии помощников — бился над волнующей задачей, осаждая природу вопросами. В основе их, разумеется, лежало увлечение ученого нервизмом. «Если сердце, — добивался он ответа, — снабжено нервами, регулирующими его интимное питание, то такими же нервами должны быть снабжены и желудок, и железы, и, наконец, весь кишечный канал. Как иначе объяснить способность работающей железы восстанавливать свои запасы? Кто регулирует химические процессы в ней? А если трофический регулятор существует во всем желудочно-кишечном тракте, то изучение его механизма откроет тайну важнейшего биологического процесса — пищеварения…»
И опять вмешался старик Льюис со своей «Физиологией обыденной жизни». Павлов еще в детстве на этот счет прочитал у него: «Все части пищевого канала сочувственны. При сильном отделении слюны всякое раздражение слизистой оболочки желудка усиливает слюнотечение. Это последнее обстоятельство не следует забывать, не многие обращают на него внимание…»
В самом деле любопытно, он обязательно обратит на это внимание. Однако прежде всего надо уяснить себе картину пищеварения, что известно о ней.
— Пищевой канал, — объясняет Павлов помощникам, — химический завод, подвергающий сырье — пищу — химической обработке, чтобы вернее и лучше усвоить ее. Завод состоит из ряда отделений, где пища в зависимости от качеств и свойств задерживается, сортируется или следует дальше. К отделениям завода доставляются реактивы — химические вещества — из ближайших фабричек, устроенных в стенках завода на кустарный лад, или из более отдаленных, обособленных органов. Эти органы-фабрики сообщаются с заводом трубопроводами. Таковы железы с их протоками. Каждое производство доставляет специальную жидкость, особый реактив, действующий на известные составные части пищи.
Физиология конца девятнадцатого века процессы эти изучила. Извлеченные из организма химические вещества были обследованы в стаканчиках. Здесь выяснилось их действие на различную пищу и взаимное влияние друг на друга. Скудная методика не могла объяснить всей механики пищеварения: от чего зависит порядок секреции желез? Все ли они выделяют соки на каждую еду? Зависит ли интенсивность отделения секрета от количества поглощаемой пищи? Вступают ли реактивы во взаимоборство, или нейтрализуют друг друга? В какой, наконец, мере связаны эти процессы с деятельностью нервной системы?
Ученые верили, что пища механически действует на железы, призывая их к сокоотделению. Сам процесс выделения желчного и кишечного сока вовсе не находил себе объяснений. Неизученными также оставались механика передвижения пищи в кишечнике и степень участия различных отделов его в усвоении продуктов питания.
Были также попытки изучать пищеварение на здоровом животном. Накладывали фистулу на поджелудочную железу, выводили проток ее через отверстие брюшной стенки наружу, и выделительная деятельность железы становилась доступной наблюдению. Однако новая методика не разрешала задачи. Оперированная железа отказывалась вырабатывать соки. Из вставленной в проток резиновой трубки изливался секрет, но шел он непрерывно, независимо от того, ест ли животное, или пребывает без пищи. Этим не исчерпывались все неудачи: трубка скоро вываливалась из протока, и фистула зарастала.
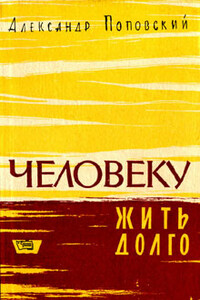
«Повесть о хлорелле» автор раскрывает перед читателем судьбу семьи профессора Свиридова — столкновение мнений отца и сына — и одновременно повествует о значении и удивительных свойствах маленькой водоросли — хлореллы.
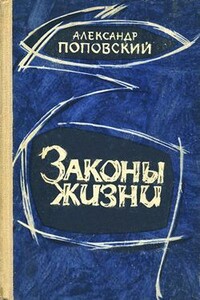
Александр Поповский известен читателю как автор научно-художественных произведений, посвященных советским ученым. В повести «Во имя человека» писатель знакомит читателя с образами и творчеством плеяды замечательных ученых-физиологов, биологов, хирургов и паразитологов. Перед читателем проходит история рождения и развития научных идей великого академика А. Вишневского.
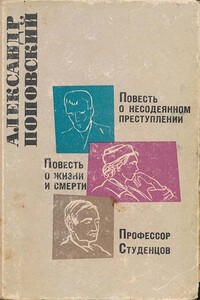
Александр Поповский — один из старейших наших писателей.Читатель знает его и как романиста, и как автора научно–художественного жанра.Настоящий сборник знакомит нас лишь с одной из сторон творчества литератора — с его повестями о науке.Тема каждой из этих трех повестей актуальна, вряд ли кого она может оставить равнодушным.В «Повести о несодеянном преступлении» рассказывается о новейших открытиях терапии.«Повесть о жизни и смерти» посвящена борьбе ученых за продление человеческой жизни.В «Профессоре Студенцове» автор затрагивает проблемы лечения рака.Три повести о медицине… Писателя волнуют прежде всего люди — их характеры и судьбы.
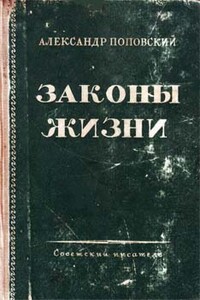
Книга посвящена одному из самых передовых и талантливых ученых — академику Трофиму Денисовичу Лысенко.

Сборник продолжает проект, начатый монографией В. Гудковой «Рождение советских сюжетов: типология отечественной драмы 1920–1930-х годов» (НЛО, 2008). Избраны драматические тексты, тематический и проблемный репертуар которых, с точки зрения составителя, наиболее репрезентативен для представления об историко-культурной и художественной ситуации упомянутого десятилетия. В пьесах запечатлены сломы ценностных ориентиров российского общества, приводящие к небывалым прежде коллизиям, новым сюжетам и новым героям.
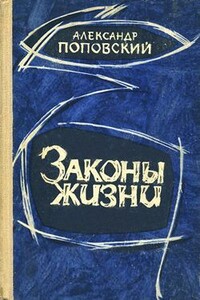
Александр Поповский известен читателю как автор научно-художественных произведений, посвященных советским ученым. В повести «Вдохновенные искатели» писатель знакомит читателя с образами и творчеством плеяды замечательных ученых-паразитологов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Ни один писатель не может быть равнодушен к славе. «Помню, зашел у нас со Шварцем как-то разговор о славе, — вспоминал Л. Пантелеев, — и я сказал, что никогда не искал ее, что она, вероятно, только мешала бы мне. „Ах, что ты! Что ты! — воскликнул Евгений Львович с какой-то застенчивой и вместе с тем восторженной улыбкой. — Как ты можешь так говорить! Что может быть прекраснее… Слава!!!“».

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.