Памяти памяти. Романс - [64]
«Память моя враждебна всему личному. Если бы от меня зависело, я бы только морщился, припоминая прошлое. Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых-внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями. Повторяю — память моя не любовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведением, а над отстранением прошлого».
Это удивительная рамка для человека, собравшегося именно что припоминать — причем тридцати двух лет от роду, в возрасте, не самом пригодном для этого занятия, — и делающего это одним из первых, если не первым, в своем поколении: пока не остыло. Речь при этом идет о том, что размещено предельно близко к телу, о домашнем мире, его звуках и запахах: о том, что так просто переводится на ходовую валюту чая с мадленками и светлой (обнадеживающей) печали. Отец и мать, книжный шкаф, затянутый зеленым, финские дачи, скрипичные концерты, прогулки с няней и все такое прочее — готовый материал для «Детства Оси», которое, видимо, было крепким и основательным, и тем больше усилий требовалось, чтобы с ним порвать.
Получился очень странный текст, прежде всего по степени сжатия, по силе, с которой единицы тактильной, слуховой, обонятельной информации сбиты-спрессованы в темную массу с янтарными прожилками и уплотнениями, в каменные пласты, где ничего не увидишь без шахтерского фонаря. У самораскрывающихся формул нету места, чтобы разложить палатку; любая фраза запечатана, как дверь, ведущая в коридор. Прошлое описывается как ландшафт (и даже как геологическая проблема, имеющая историю и способы решения) — и повесть о детстве оборачивается научным текстом.
Его логика, кажется, вот какая: автор собирается картографировать место, куда не хочет возвращаться. Поэтому первым делом он, как умеет, вычитает оттуда человеческий фактор — конфорочный огонек нежности, что почти неизбежен при разговоре о старой памяти. Текст разворачивается при низких температурах, от зимы к зиме, в облаках пара и шорохе шуб. Комнатная температура здесь немыслимая роскошь; мороз — естественная среда. Занятно, что на языке видеомонтажа заморозить — значит остановить, привести изображение к film still, к стоп-кадру. В некотором смысле «Шум времени» устроен как камера, описывающая вокруг таких stills — круги-развертки пластических образов, утративших свое телеологическое тепло (или упрятавших его глубоко в рукава). Именно это имеет в виду точная и несправедливая цветаевская максима: «Ваша книга — nature morte… без сердцевины, без сердца, без крови — только глаза, только нюх, только слух».
Задача исторического натюрморта, которым занят здесь Мандельштам, — вопреки детской и родовой нежности дать точную схему, пластическую формулу уходящего. Это работает как военный парад: идет перекличка рядов и геометрических фигур — рукава-буфы отражаются в стеклянном куполе Павловского вокзала, пустые объемы площадей и улиц заполняются людскою массой, архитектура дополняет музыку. Но наперекор всякому строю тлеет и чадит огонек девяностых годов, мускусный и меховой мир юдаизма, тома приложений к «Ниве». Литература (ее чахоточная лампадка, ее учителя и родственники) имеет теплый и темный привкус семейного дела; еврейство то выбирается из хаоса, то заново обрастает косматым руном; в их присутствии картинка становится закопченной, уходит все дальше в черную толщу культурного слоя. По счастью, у музыки и архитектуры есть старший брат-логик — марксистская классовая система.
Речь тут не о понятной схеме, где демонстрация ужасов царизма обещает скорую революцию; так, по-прямому, поняла «Шум времени» Цветаева, объясняя все эти «тротуар предназначался для бунта» желанием понравиться власти. В тексте действительно с невинной хитростью расставлены, как вешки, указания на некое точное знание, собирающее в один общий пучок разнонаправленные линии рассказа. Скорее всего, у повести есть и этот слой, детский и прагматический: дать понять, что отродясь сочувствовали переменам, пытались тогда очень многие, от Брюсова и Городецкого до Сологуба, только что выпустившего тот самый сборник революционных стихов. Но для Мандельштама его подростковый марксизм, бывший или небывший, имеет серьезный, системообразующий смысл — он вроде стре́лок, намечающих движение, что приведет к окончательному рывку. Огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля, позволивший добраться до ясной и артикулированной точки-сейчас, должен был откуда-то взяться.
Из этого «сейчас» Мандельштам смотрит на похороны века, как будет смотреть через несколько лет на лестницу Ламарка с ее постоянным соблазном развоплощения, неразличающей зеленой могилы. Содрогание и приязнь при виде недавнего прошлого (с такими иной раз человек разглядывает обезьяну) — то, что отличает первую мандельштамовскую прозу от ближайших, более простодушных соседей по жанру. Память тут не сентиментальна, а функциональна, она действует как ускоритель. Ее дело — не объяснить автору, откуда он взялся, и уж точно не создать копию младенческой колыбели, чтобы раскачивать ее туда-сюда. Она работает над сепарацией, подготавливает разрыв, без которого невозможно стать собой. Прошлое надо оттолкнуть от себя, чтобы набрать необходимую скорость. Без этого будущее не начнется.

Книга Марии Степановой посвящена знаковым текстам и фигурам последних ста лет русской и мировой культуры в самом широком диапазоне: от Александра Блока и Марины Цветаевой – до Владимира Высоцкого и Григория Дашевского; от Сильвии Плат и Сьюзен Зонтаг – до Майкла Джексона и Донны Тартт.

Мария Степанова родилась в 1972 году в Москве. Автор книг «Песни северных южан» (2000), «О близнецах» (2001), «Тут-свет» (2001), «Счастье» (2003), «Физиология и малая история» (2005). Настоящий текст был впервые опубликован под именем Ивана Сидорова и под названием «Проза» на сайте LiveJournal.сom.
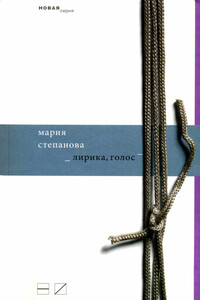
Мария Степанова родилась в 1972 году в Москве. Автор книг «Песни северных южан» (2000), «О близнецах» (2001), «Тут-свет» (2001), «Счастье» (2003), «Физиология и малая история» (2005), «Проза Ивана Сидорова» (2008). В книге «Лирика, голос» собраны стихи 2008 года.

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.
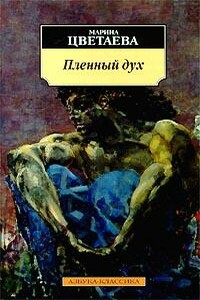
Проза поэта о поэтах... Двойная субъективность, дающая тем не менее максимальное приближение к истинному положению вещей.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.