Память сердца - [71]
— Ах, Анатоль Васильович, поживите здесь со мною. Все стало таким гнусным в Берлине. Здесь можно хоть ненадолго забыться.
— Но я не хочу забываться. Чем хуже, тем больше требуется энергии, бдительности, упорства, — возразил Луначарский.
Моисси пригласил нас позавтракать с ним.
Стол был накрыт в его комнате, в большом эркере, в окнах которого виднелись куртины с потемневшими от заморозков, но местами еще яркими астрами и георгинами; вдали за цветочными клумбами поднимались рыжие стволы и темно-зеленые верхушки гигантских сосен.
— Вы лечились в Кенигсштейне? Там удивительно спокойно и красиво… Вспоминал меня д-р С. из санатория Констамм? Он милейший человек, простой и жизнерадостный… Откровенно говоря, его неизменная жизнерадостность иногда утомляла меня. У него, по счастью, эта жизнерадостность не профессиональная — для пациентов, — а своя собственная, натуральная и все же несколько утомительная… — Глаза Моисси были полузакрыты тяжелыми, свинцовыми веками, и взгляд казался потухшим, усталым. — Он не говорил вам о моей болезни? Дело в том, что я не сплю, совсем не сплю. Мозг, нервы не отдыхают. Думаю, думаю, стараюсь что-то рассмотреть сквозь непроницаемый мрак… Ну, не буду об этом, а то вы, пожалуй, больше не захотите видеться со мною. Я навожу тоску! Расскажите о Москве, о моих московских друзьях, о театре.
Анатолий Васильевич уже больше полугода не был в Союзе, но мы встречались с приезжавшими на Запад москвичами и ежедневно получали множество писем, журналов и газет из Москвы. Луначарский рассказал Моисси о постановке «Гамлета» с Горюновым — Гамлетом и о «Егоре Булычове» в театре Вахтангова. Горький прислал Анатолию Васильевичу из Москвы сигнальный экземпляр «Егора Булычова», и Анатолий Васильевич, прочитав эту пьесу, с нетерпением ждал возможности увидеть ее на сцене с Булычовым — Щукиным. Упомянул он также об успехе «Страха» Афиногенова и «Воскресения» в МХАТ.
Моисси несколько оживился.
— Да, у вас там жизнь, пусть нелегкая, но чистая, целеустремленная. Если я найду в себе силы продолжать ремесло актера, я приеду к вам. Станиславский говорит, что был бы рад увидеть меня в своей труппе. Но сейчас я не могу играть. Не знаю, быть может, это временно… Я начал писать драму о женщине, о самом большом в жизни женщины — о материнстве. Знакомый врач, директор родильного дома, сказал мне, что я увижу в его заведении много интересного и трогательного, необходимого для задуманной мною драмы. Он говорил, что на лицах молодых матерей, которым подносят их первенцев, я увижу то непередаваемо счастливое выражение, которое может вдохновить меня и дать импульс для творческой мысли. На меня надели белый халат и шапочку, завязали рот марлей, и я с моим другом обошел палаты. Через несколько дней в газетах появился гнусный пасквиль: «Наглый иностранец садистически наслаждается страданием немецких женщин. Комедиант вторгается в операционный зал, оскорбляя этим женскую стыдливость…» и тому подобное. — На его лице появились красные пятна, глаза лихорадочно блестели. — Ах, дорогие друзья, не хочу, чтобы вы расстраивали себе нервы из-за меня. Если вы поселитесь здесь, я обещаю — мы будем говорить только о приятном, спокойном, хорошем. Читать вместе. Будем читать сонеты Петрарки. Ведь книга тоже наркоз: книга помогает забыться.
— Опять «забыться»? — попробовала я свести разговор к шутке. — Ведь Анатолий Васильевич сказал, что не хочет забываться.
— Жизнь груба и беспощадна. Чтобы переносить ее, нужны наркозы. Разные наркозы. Есть наркозы вульгарные, примитивные, например алкоголь. Искусство, любовь к женщине — это тоже наркозы, несколько более высокого порядка. Но лучший наркоз — пантопон, еще лучше морфий. Заснуть я могу только после сильной дозы морфия, и эти часы искусственного сна — единственные островки среди бушующего океана, оазисы среди выжженной пустыни. Сон — моя единственная, такая короткая, так трудно достижимая радость. — Он откинул бледное, исхудавшее лицо на подушки шезлонга: — Я все о себе, о себе… Простите. Скажите, Анатоль Васильевич, каковы ваши планы?
— После операции я пробуду некоторое время в Берлине, а потом опять в Москву за работу в Учкоме, в Академии наук. У меня начата работа о Бэконе, о социальном значении сатиры. Я собираюсь написать полубеллетристический этюд о Гоголе и драму о нашем гениальном поэте Лермонтове. Хочу назвать ее «Печальный Демон». А главная моя задача — книга о Ленине. Если мне удастся, если я успею написать ее, я смогу считать задачу своей жизни в основном выполненной.
— Вы — счастливый, — медленно проговорил Моисси. — Я восхищаюсь вами, — и он прижался как-то по-детски щекой к руке Анатолия Васильевича.
Назвать в ту пору тяжко больного Луначарского счастливым было странно, но та сила духа, которая чувствовалась в этом организме, подточенном царскими тюрьмами, огромной работой первых лет революции, могла внушить зависть. И такую благородную зависть я почувствовала тогда в Моисси.
— Вам надо уехать из Германии, Сандро. Поезжайте в Швейцарию, на юг Франции. А когда я приеду в Москву, я сделаюсь вашим менеджером, вы будете снова нашим гостем.
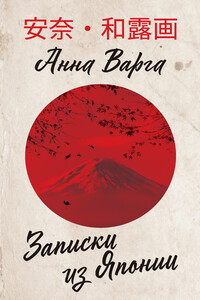
Эта книга о Японии, о жизни Анны Варги в этой удивительной стране, о таком непохожем ни на что другое мире. «Очень хотелось передать все оттенки многогранного мира, который открылся мне с приездом в Японию, – делится с читателями автор. – Средневековая японская литература была знаменита так называемым жанром дзуйхицу (по-японски, «вслед за кистью»). Он особенно полюбился мне в годы студенчества, так что книга о Японии будет чем-то похожим. Это книга мира, моего маленького мира, который начинается в Японии.
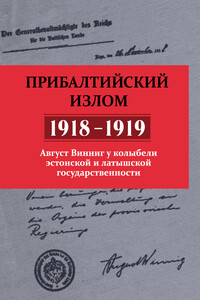
Впервые выходящие на русском языке воспоминания Августа Виннига повествуют о событиях в Прибалтике на исходе Первой мировой войны. Автор внес немалый личный вклад в появление на карте мира Эстонии и Латвии, хотя и руководствовался при этом интересами Германии. Его книга позволяет составить представление о событиях, положенных в основу эстонских и латышских национальных мифов, пестуемых уже столетие. Рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг интересующихся историей постимперских пространств.

Валентин Михайлович Фалин не просто высокопоставленный функционер, он символ того самого ценного, что было у нас в советскую эпоху. Великий политик и дипломат, профессиональный аналитик, историк, знаток искусства, он излагал свою позицию одинаково прямо в любой аудитории – и в СМИ, и начальству, и в научном сообществе. Не юлил, не прятался за чужие спины, не менял своей позиции подобно флюгеру. Про таких как он говорят: «ушла эпоха». Но это не совсем так. Он был и остается в памяти людей той самой эпохой!

В книгу вошли воспоминания и исторические сочинения, составленные писателем, драматургом, очеркистом, поэтом и переводчиком Иваном Николаевичем Захарьиным, основанные на архивных данных и личных воспоминаниях. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
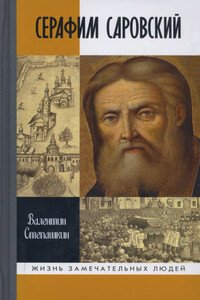
Впервые в серии «Жизнь замечательных людей» выходит жизнеописание одного из величайших святых Русской православной церкви — преподобного Серафима Саровского. Его народное почитание еще при жизни достигло неимоверных высот, почитание подвижника в современном мире поразительно — иконы старца не редкость в католических и протестантских храмах по всему миру. Об авторе книги можно по праву сказать: «Он продлил земную жизнь святого Серафима». Именно его исследования поставили точку в давнем споре историков — в каком году родился Прохор Мошнин, в монашестве Серафим.
