Палитра сатаны - [43]
Внезапно череда почечных колик прервалась, наступило просветление, и тут мессир зашептал, тяжко дыша:
— Ну вот, Витторио! Я ухожу. Что случится после меня? Мне не повезло, потому что везения у меня было много больше, чем нужно, и оно пришло ко мне слишком быстро! За избыток счастья всегда надо платить… как ни крути! Вот ты останешься после меня… для того… чтобы свидетельствовать… Ты им скажешь… Ты скажешь…
Фразу он закончить не успел.
— Что вы хотите, чтобы я им сказал? — спросил Витторио.
Слишком поздно! Арчимбольдо больше не дышал. Великая тишина затопила комнату, а в это время на улице люди продолжали спешить, метаться, никуда не поспевая, говорить, чтобы ничего не сказать, исполненные глухого равнодушия к самому важному событию дня. Это свершилось тринадцатого июля 1593 года. В том же доме на окраине Милана, где Арчимбольдо появился на свет шестьдесят шесть лет тому назад.
Витторио занялся похоронами и распорядком траурных церемоний. Продолжая размышлять о жизненном пути Арчимбольдо, он вновь и вновь спрашивал себя: не основана ли исключительная известность этого человека на недоразумении? Тем не менее он делал все, чтобы защитить репутацию своего наставника, даже подражал его манере в тех полотнах, кои доводилось писать ему самому в память об их общем прошлом. Но он не замедлил обнаружить, что эти его работы никого не интересуют. Даже самые пылкие ценители брызжущего фантазией искусства Арчимбольдо отворачивались одновременно и от своего кумира, и от его верного последователя.
Уже покров забвения опускался на знаменитого изобретателя живописных мифов. Однажды, разбирая бумаги покойного, Витторио нашел автопортрет художника, рисунок пером и голубой сепией. Работа поистине экстраординарная: Арчимбольдо, по-видимому желая оставить потомству правдоподобное изображение самого себя, не прибег к бурлескным искажениям, коим был обязан своей славой. Правильные черты лица, тщательно причесанная бородка, ясный взгляд. Таким он и был в последние годы жизни. Возвратившись к традиции, когда-то оставленной и осужденной, он в первый и последний раз отрекся от неслыханных преувеличений, что так полюбились его современникам.
Хорошенько поразмыслив, Витторио решил скрыть от публики свою находку, которая могла повредить посмертной славе Арчимбольдо. Сам же он после недолгих бесплодных попыток остаться в живописи совершенно от нее отошел. Но, обладая умелыми руками, преуспел в ремесле изготовителя рам, сведя таким образом собственные амбиции к стремлению наиболее полно выявить амбиции других.
Ирод, или
Спокойная совесть
Мои беседы с весьма ученым и усердным в накоплении знаний рабби Гамалиэлем, без чьей опытности я уже не могу обойтись, при всем том с каждым днем все больше утомляют меня. Вот и в это утро, под тем предлогом, что, согласно его вычислениям, наступило шестидесятилетие со дня моего появления на свет (он, что же, знает об этом больше, чем я сам? Интересно…), наш мудрец непременно захотел принести мне свои поздравления с долголетием и перечислить все необычайные стечения обстоятельств, сделавших меня, Ирода Первого Великого, царем Иудеи.
Он напомнил мне, как умело я завоевал доверие римлян, занявших Палестину, как своевременно подавил попытавшихся поднять голову народных освободителей Иезекииля, как безошибочно я оказал поддержку Антонию и Октавию в их борьбе с парфянами… Короче, он по очереди выставил на обозрение череду моих дипломатических подвигов (увы, за неимением побед военных). Надо признать, что я и впрямь неплохо выбирался из любых положений. За десятилетия своего правления, что минули с той поры, как Палестина перешла под римский протекторат, я держу Иудею в руках, проявляя железную волю; несгибаемость моих решений очень высоко ценится там, наверху. Мне, разумеется, ведомы претензии некоторого числа иудеев, что я, мол, не вполне их человек, поскольку предки мои — идумеяне. Эти последние, жившие к югу от Мертвого моря, в стране Эдом, будучи разгромлены Давидом, слишком долго оставались вассалами повелителей Иудеи. И вот ныне все обернулось так, что один из бывших эдомских «рабов» с одобрения Рима ими правит. Если копнуть, я и сам знаю, да и Гамалиэль подтвердит, что в подобной ситуации фальшивой национальной независимости два обстоятельства задевают моих подданных чувствительней всего. Во-первых, они страждут под гнетом податей, каковые я обязан на них налагать, подчиняясь требованиям Рима. Во-вторых, почтение, с каким я отношусь к религии римлян и к богам, населяющим тамошний Олимп, оскорбляет их. Меднолобые иудеи не могут допустить поклонения идолам; ведь, если считать истиной утверждения Торы, за которую горой стоят раввины и Синедрион, — один лишь Яхве повелевает на земле. Для всех поборников иудейского вероучения, этих простофиль, чьи сердца вместительны, а глаза близоруки, не подлежит сомнению, что Мессия, обещанный их священными текстами, со дня на день объявится среди них и принесет всем искренним душам мир, изобилие и мудрость. Я же, между нами будь сказано, поневоле задаю себе вопрос: каким образом этот посланец потустороннего мира один — без меча и лука, без копья и палицы — обратит в ничто целое воинство богов, экипированных и поддерживаемых Римом заодно с Грецией? Но безрассудство такого предположения ускользает от внимания Гамалиэля. У него то преимущество, что он с одинаковой легкостью трется среди простого народа и вращается в кругу избранных, а потому его ухо чутко улавливает все, о чем толкуют в Иерусалиме. Во мнении большинства своих собеседников он слывет человеком приятным. По должности он простой писец, но некоторые видят в нем рабби, обладающего способностью толковать будущее. У него, взращенного на велениях и рецептах Торы, каковую он знает назубок, имеется ответ решительно на все, и он редко ошибается. Я диктую ему, он записывает слово в слово, чтобы в точности донести мои мысли не только до современников, но и до будущих поколений. Легкое поскрипывание тростниковой палочки, обмакиваемой в краску из дымовой сажи и мерно скользящей по папирусу, против всяких ожиданий действует успокоительно. Будто утреннее омовение. Словно прохладной воде, я доверяюсь этому свидетелю как моих высоких достижений, так и моих ошибок. Но даже те, кто осмеливается ставить мне в упрек упразднение некоторых членов моего семейства (например, тех исчадий Асмодеевых, что плели против меня заговор), даже они находят для сих деяний смягчающие обстоятельства. Ну да, я велел умертвить одну за другой нескольких женщин, деливших со мною ложе, включая супругу мою Мариамну, которую при всем том любил. И поручил своим прислужникам удавить двух моих сыновей от нее — Александра и Аристобула, равно как и брата ее Гиркана вместе с матерью ее Александрой. Но я вынужден был решиться на это, чтобы оградить себя от интриг, о коих меня час за часом оповещали надежные соглядатаи. Впрочем, и сам император Август, узнав о произошедшей здесь цепочке убийств, велел мне передать, что понимает, какою жестокой необходимостью все они вызваны.
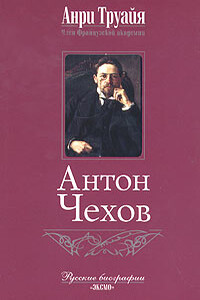
Кто он, Антон Павлович Чехов, такой понятный и любимый с детства и все более «усложняющийся», когда мы становимся старше, обретающий почти непостижимую философскую глубину?Выпускник провинциальной гимназии, приехавший в Москву учиться на «доктора», на излете жизни встретивший свою самую большую любовь, человек, составивший славу не только российской, но и всей мировой литературы, проживший всего сорок четыре года, но казавшийся мудрейшим старцем, именно он и стал героем нового блестящего исследования известного французского писателя Анри Труайя.

Анри Труайя (р. 1911) псевдоним Григория Тарасова, который родился в Москве в армянской семье. С 1917 года живет во Франции, где стал известным писателем, лауреатом премии Гонкуров, членом Французской академии. Среди его книг биографии Пушкина и Достоевского, Л. Толстого, Лермонтова; романы о России, эмиграции, современной Франции и др. «Семья Эглетьер» один роман из серии книг об Эглетьерах.
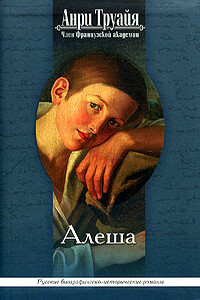
1924 год. Советская Россия в трауре – умер вождь пролетариата. Но для русских белоэмигрантов, бежавших от большевиков и красного террора во Францию, смерть Ленина становится радостным событием: теперь у разоренных революцией богатых фабрикантов и владельцев заводов забрезжила надежда вернуть себе потерянные богатства и покинуть страну, в которой они вынуждены терпеть нужду и еле-еле сводят концы с концами. Их радость омрачает одно: западные державы одна за другой начинают признавать СССР, и если этому примеру последует Франция, то события будут развиваться не так, как хотелось бы бывшим гражданам Российской империи.
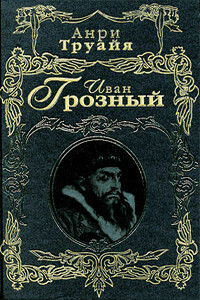
Личность первого русского царя Ивана Грозного всегда представляла загадку для историков. Никто не мог с уверенностью определить ни его психологического портрета, ни его государственных способностей с той ясностью, которой требует научное знание. Они представляли его или как передовую не понятную всем личность, или как человека ограниченного и даже безумного. Иные подчеркивали несоответствие потенциала умственных возможностей Грозного со слабостью его воли. Такого рода характеристики порой остроумны и правдоподобны, но достаточно произвольны: характер личности Мвана Грозного остается для всех загадкой.Анри Труайя, проанализировав многие существующие источники, создал свою версию личности и эпохи государственного правления царя Ивана IV, которую и представляет на суд читателей.

Анри Труайя – знаменитый французский писатель русского происхождения, член Французской академии, лауреат многочисленных литературных премий, автор более сотни книг, выдающийся исследователь исторического и культурного наследия России и Франции.Одним из самых значительных произведений, созданных Анри Труайя, литературные критики считают его мемуары. Это увлекательнейшее литературное повествование, искреннее, эмоциональное, то исполненное драматизма, то окрашенное иронией. Это еще и интереснейший документ эпохи, в котором талантливый писатель, историк, мыслитель описывает грандиозную картину событий двадцатого века со всеми его катаклизмами – от Первой мировой войны и революции до Второй мировой войны и начала перемен в России.В советское время оригиналы первых изданий мемуаров Труайя находились в спецхране, куда имел доступ узкий круг специалистов.
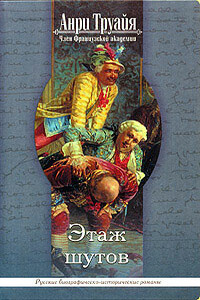
Вашему вниманию предлагается очередной роман знаменитого французского писателя Анри Труайя, произведения которого любят и читают во всем мире.Этаж шутов – чердачный этаж Зимнего дворца, отведенный шутам. В центре романа – маленькая фигурка карлика Васи, сына богатых родителей, определенного волей отца в придворные шуты к императрице. Деревенское детство, нелегкая служба шута, женитьба на одной из самых красивых фрейлин Анны Иоанновны, короткое семейное счастье, рождение сына, развод и вновь – шутовство, но уже при Елизавете Петровне.

Повесть Е. Титаренко «Изобрети нежность» – психологический детектив, в котором интрига служит выявлению душевной стойкости главного героя – тринадцатилетнего Павлика. Основная мысль повести состоит в том, что человек начинается с нежности, с заботы о другой человеке, с осознания долга перед обществом. Автор умело строит занимательный сюжет, но фабульная интрига нигде не превращается в самоцель, все сюжетные сплетения подчинены идейно-художественным задачам.
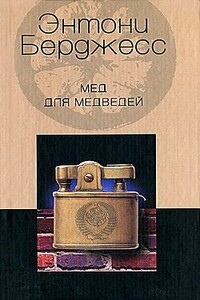
Супружеская чета, Пол и Белинда Хасси из Англии, едет в советский Ленинград, чтобы подзаработать на контрабанде. Российские спецслужбы и таинственная организация «Англо-русс» пытаются использовать Пола в своих целях, а несчастную Белинду накачивают наркотиками…

Математическая формула, которой уже около 200 лет, помогает сделать такие расчеты. Чтобы прийти к такому выводу, авторы статьи из последнего номера P.M. Magazin сначала попрактиковались в математике.Расчеты вероятности и достоверности касались на этот раз не сухих чисел, а самых сложных вопросов человечества.Авторы P.M. Magazin выдвинули гипотезу «Бог существует» и стали размышлять на эту тему: насколько велика вероятность того, что Бог создал Вселенную? Насколько велика вероятность того, что эволюция на Земле произошла при его участии? Насколько велика вероятность того, что добро немыслимо без Бога? Каждый утвердительный ответ говорит в пользу существования Бога, а любое убедительное объяснение, не имеющее ничего общего с «промыслом Божьим», снижает вероятность его существования.В результате было установлено: Бог существует с вероятностью 62%.

Эта книга не обычное описание жизни в одной отдельно взятой деревне, а чрезвычайно личностное, заинтересованное размышление о смысле жизни в деревне вообще. И конечно же, о том, как живется-можется русскому человеку на русской земле. Понятно, жизнь эта непроста, и не текут у нас молочные реки в кисельных берегах, но все же - хороша русская деревня! Как бы загадочно и темно ни было ее прошлое, а настоящее - невразумительно и зыбко...

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник вошли ранние произведения классика английской литературы Джейн Остен (1775–1817). Яркие, искрометные, остроумные, они были созданы писательницей, когда ей исполнилось всего 17 лет. В первой пробе пера юного автора чувствуется блеск и изящество таланта будущей «Несравненной Джейн».Предисловие к сборнику написано большим почитателем Остен, выдающимся английским писателем Г. К. Честертоном.На русском языке издается впервые.
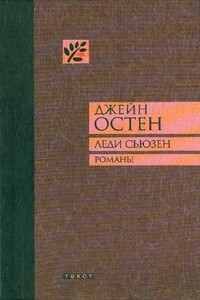
В сборник выдающейся английской писательницы Джейн Остен (1775–1817) вошли три произведения, неизвестные русскому читателю. Роман в письмах «Леди Сьюзен» написан в классической традиции литературы XVIII века; его герои — светская красавица, ее дочь, молодой человек, почтенное семейство — любят и ненавидят, страдают от ревности и строят козни. Роман «Уотсоны» рассказывает о жизни английской сельской аристократии, а «Сэндитон» — о создании нового модного курорта, о столкновении патриархального уклада с тем, что впоследствии стали называть «прогрессом».В сборник вошли также статья Е. Гениевой о творчестве Джейн Остен и эссе известного английского прозаика Мартина Эмиса.

Юношеское произведение Джейн Остен в модной для XVIII века форме переписки проникнуто взрослой иронией и язвительностью.
