Паликар Костаки - [2]
Когда повез жену свою старший брат Костаки в дом отца, видит он, что она еще такая молоденькая и нежная, пожалел и посадил ее на лошадь, а сам около пешком пошел. Жалко, говорит, а другой лошади не взяли. Увидал старик новобрачных и встретил их с ружьем в руке.
— Видишь это ружье, негодяй! — говорит сыну, — другой раз увижу, на месте убью.
— За что, Христос и Панагия[3]? — говорит сын.
— За что? — говорит старик. — Разве прилично воину сулиотскому жену посадить на лошадь? Ты сиди сам на лошади, как мужчина, а жена должна идти около и ружье твое на плече нести. Если тебе жалко стало ее, по дороге вез бы на лошади, а в деревню не въезжал бы срамить меня.
Такая вся родня была у Костаки честная и хорошая, никто их семью в бесчестном каком-нибудь деле укорить не смел. И род знаменитый их был в наших горах.
Костаки и сам был малый, как у нас говорится, костяной, нос.
И ростом, и силой, и смелостью из первых у нас. Тан-цовать станет — все любуются: сперва тихо начнет; одну ногу подвинет важно и тихонько, потом другую выставит и остановится: глядит на всех. А потом как подопрется и закружится и запрыгает, фустанелла на нем из трехсот кусков сшита, пышная, развевается — удивительно! Я тоже, эффен-ди, танцую хорошо, но Костаки гораздо лучше меня танцовал. Сулиоты все наши одеваться любят чисто. Если вы заедете в наши горы и увидите наших, как они бедно живут, вы удивитесь и скажете: дикие люди! Наши дома не то, что в городах, а у редких хозяев потолок в доме есть. Стекла на окнах никак во всей Сулии у одного только человека и есть, да и то недавно вставил их. Зимой, как поднимется ветер и снегом нас начнет заносить, мы в бурках у очага сидим и ставни притворим днем. Школ в других округах Эпира много, а у нас ни одной нет до сих пор. Нельзя и быть нам богатым. Ружье — вот наша жизнь настоящая. А как другие эпироты — жить ремеслом, у нас не в обычае. Лучше слугой пойти к богатому человеку, чем столяром или башмачником быть. Так-то мы как дикие звери живем, эффенди. По мне вы не судите, я политике в городах обучался и даже в Болгарии был и в Боснии. А гордость у сулиотов наших у всех большая. Посмотрите вы на маленького сулиота в каком-нибудь хозяйском доме в Янине или в другом городе, на малое неразумное дитя десяти каких-нибудь лет. Что вы видите? Слугой его взяли в дом, например, и без платы, а только одевать и кормить. Завелись у него две фустанеллы; он встанет рано, сам вымоет фустанеллу, утюгом выгладит и наденет, и уж пробует, как ему красоваться в ней. И так станет, и так прыгнет, и протанцует один! Завелись небольшие деньги у сулиота, он сейчас оружие хорошее покупает, одежду такую, что обувь одна, красная шолковая с кистями, лир пять турецких стоит, серебряные щипчики, чтобы уголья горячие доставать из мангала[4] для чубуков, за пояс золотом шитый заткнет и гордится. «Пусть видят люди, что воин-человек идет!»
Другие эпироты, хоть бы яниоты или загорцы богатые, смеются над нами. «Варвары люди!» — говорят они об нас. Однако ни яниот, ни загорец недостойны к оружию прикоснуться, и без наших капитанов сами турки и паши разбойников даже преследовать не могут. Придет час, господин мой, и вы опять увидите, что значит сулиот!
Таковое мое слово вам.
Костаки тоже, как следует сулиоту, одевался чисто, и сам консул, у которого я служил, всегда хвалил его за это. Придет ко мне в гости Костаки; если консул его увидит, всегда скажет ему: «Добрый вечер, Костаки! Что ты делаешь? Какой ты опрятный, я все любуюсь на тебя. Скажи мне, Костаки (раз это ему консул говорит), отчего это у вас люди простые, ремесленники, кавассы и все сельские пали-кары такие чистые и нарядные? И белого на вас столько, и все чисто, и руки вы чисто держите, так что вас в пример европейцам можно поставить; а купцы богатые ваши, доктора, ученые и все, что у вас европейскую одежду носят и кого вы, дураки, благородными, чорт знает почему, зовете, отчего они такие неопрятные и неловкие, и сюртуки скверно сшиты и на воротнике сала три ока? Отчего это?»
Мы улыбаемся оба с Костаки и молчим. Хоть и знаем, что сказать, а хотим консулу почтенье показать, как будто стыдимся.
— Говорите же! — рассердился немного консул.
— Моя такая мысль, г. консул, — говорит Костаки, — думаю я, эти богатые и ученые у нас надеются, что их и паши, и консулы и всякий примут и посадят, и уважение сделают, хоть они и грязные придут. А нам, горцам, что делать, чтобы хоть немного получше казаться? мы и украшаем сами себя, как умеем.
— Умно говоришь ты, Костаки, — говорит консул. — А я еще и другое думаю: что по-здешнему одеваться, от отца и деда, и прадеда обычай идет, и всякий знает как надо. А эти медведи хотят по-европейски одеться — и не умеют. Так, как ваши архонты одеваются, у нас так нищие либо преступники галерные одеты.
Ужасно любит этого Костаки наш консул. Все говорит ему: «Когда ж это я тебя к себе кавассом возьму да увижу тебя с красотою твоей в красной куртке, золотом расшитой? Что мне делать? Мои старики-кавассы верно мне служат столько лет. Не могу я прогнать их чрез тебя! А более четырех не положено!»

«…Я уверяю Вас, что я давно бескорыстно или даже самоотверженно мечтал о Вашем юбилее (я объясню дальше, почему не только бескорыстно, но, быть может, даже и самоотверженно). Но когда я узнал из газет, что ценители Вашего огромного и в то же время столь тонкого таланта собираются праздновать Ваш юбилей, радость моя и лично дружественная, и, так сказать, критическая, ценительская радость была отуманена, не скажу даже слегка, а сильно отуманена: я с ужасом готовился прочесть в каком-нибудь отчете опять ту убийственную строку, которую я прочел в описании юбилея А.

Константин Николаевич Леонтьев начинал как писатель, публицист и литературный критик, однако наибольшую известность получил как самый яркий представитель позднеславянофильской философской школы – и оставивший после себя наследие, которое и сейчас представляет ценность как одна и интереснейших страниц «традиционно русской» консервативной философии.

Константин Николаевич Леонтьев начинал как писатель, публицист и литературный критик, однако наибольшую известность получил как самый яркий представитель позднеславянофильской философской школы – и оставивший после себя наследие, которое и сейчас представляет ценность как одна и интереснейших страниц «традиционно русской» консервативной философии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Константин Николаевич Леонтьев начинал как писатель, публицист и литературный критик, однако наибольшую известность получил как самый яркий представитель позднеславянофильской философской школы — и оставивший после себя наследие, которое и сейчас представляет ценность как одна и интереснейших страниц «традиционно русской» консервативной философии.

Рассказы и статьи, собранные в книжке «Сказочные были», все уже были напечатаны в разных периодических изданиях последних пяти лет и воспроизводятся здесь без перемены или с самыми незначительными редакционными изменениями.Относительно серии статей «Старое в новом», печатавшейся ранее в «С.-Петербургских ведомостях» (за исключением статьи «Вербы на Западе», помещённой в «Новом времени»), я должен предупредить, что очерки эти — компилятивного характера и представляют собою подготовительный материал к книге «Призраки язычества», о которой я упоминал в предисловии к своей «Святочной книжке» на 1902 год.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.Книга «За рубежом» возникла в результате заграничной поездки Салтыкова летом-осенью 1880 г. Она и написана в форме путевых очерков или дневника путешествий.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В шестой том собрания сочинений вошли прозаические произведения 1916–1919., пьесы и статьи.Комментарии Ю. Чирвы и В. Чувакова.http://ruslit.traumlibrary.net.
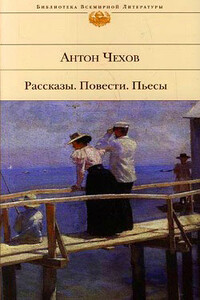
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.