«Отравить монаха», или Человеческие ценности по Умберто Эко - [2]
Эко в первую очередь указал на унаследованный нами греческий рационализм.
От Платона до Аристотеля знание означало осознание причин. Тот или иной бог определял первопричину, за которой ничего иного не стояло. Мир описывался через причинные связи, покоившиеся на принципах идентичности, непротиворечивости и исключения середины.
Латинский же менталитет обогатил рационализм древних греков категорией меры — как известно, панримская идеология основывается на точном определении границ: если границы не признаются, то нет civitas.[4] Сюда входит и строгая хронологичность. Время необратимо. Этот принцип есть и в латинском синтаксисе.
По мнению Эко, греко-римский рационализм до сих пор царит в математике, логике, программировании; он составляет основу западного рационализма, и если не всегда гарантирует познание физического мира, то по крайней мере обеспечивает социальный контакт.
Но это лишь часть греческого наследства. Одновременно в античном мире жила идея постоянной метаморфозы, ее символизировал Гермес. Гермес, отец всех искусств и бог воров, — летучий и двусмысленный. Мир Гермеса отрицает принципы рационализма. Причинные связи здесь могут закручиваться назад в спирали: «после» предшествует «сначала». Для бога нет пространственных границ, и он может в разных обличьях быть в разных местах одновременно.
Эко отмечает, что во II веке н.э. Гермес был наиболее почитаемым божеством после Христа. В чем-то сравнимый с сегодняшним миром, этот век оказал особое влияние на последующие столетья. То была эпоха универсально образованного человека. Его знания отражали связный мир, в котором, как в котле, смешались расы, языки и идеи, а все боги равно признавались, и различия между ними во многом были стерты (вспомним Изиду, Астарту, Деметру, Кибелу, Анаит, Майю).
В то время модель греческого рационализма терпела кризис. Было возможно сосуществование разноприродных духовных явлений. Слово оказывалось аллегорией и говорило не то, что обозначало. Герменевтика II века искала в книгах неведомую истину, и при этом представлялось, будто каждая книга содержала искру истины и все вместе они подтверждали друг друга.
Поиск различных истин родился из недоверия к классическому греческому наследию. В частности, породил представление, будто любое настоящее знание должно быть более архаичным. Оно-де затерялось среди остатков цивилизаций, которые проигнорировали отцы греческого рационализма. Истина — это нечто, с чем живем мы с доисторических времен, но о чем забыли. И где-то есть носители истины, слова которых мы не понимаем. Во II веке считалось, будто тайным знанием обладают друиды, кельтские священники, либо мудрецы с Востока, говорившие на непонятных языках. (Классический рационализм идентифицировал варваров с теми, кто неясно говорит. Этимология слова «варвар» — заика.) «Заикание» иностранца становится языком обещаний и немых откровений. Постепенно утвердилась идея, будто варварские священники обладают знанием секретных связей, что объединяют духовный мир со звездным, и могут влиять на божество.
Герменевтическая мысль превращает театр всего мира в лингвистический феномен и одновременно не признает за языком какую-либо коммуникативную власть — отмечает Эко. Внутренним связям нет конца: бесконечны и толкования. Каждый объект содержит секрет. Каждый вновь раскрытый секрет отсылает к другому секрету. Главная же тайна герменевтического посвящения — все есть тайна. А знание — это способность мистической интуиции. Отсюда — герменевтическая тайна может быть и пустой… Герменевтическая модель порождает типичное убеждение, будто все тайное есть нечто важное и главное. Заставляет всех верить в исключительность и силу обладателя политического секрета.
Эко указывает, что в Средние века герменевтическое сознание было маргинальным, свойственным алхимикам и каббалистам. Лишь в XV веке во Флоренции был открыт классический текст герменевтики «Corpus Hermeticum», и с тех пор она заняла значительное место в европейской культуре от магии до науки. Отчетливо прослеживается ее влияние на научное мышление — и здесь Эко упоминает Фрэнсиса Бэкона, Кеплера, Ньютона; вспоминает Гете, Нерваля, Йейтса — из поэтов, Хайдеггера и Юнга — из философов. Замечает, что во многих постмодернистских теориях критики сквозит идея постоянного ускользания смысла…
Наконец, Эко обратился к еще одной составной части культуры -гнозису. Для греков гнозис означал истинное знание существования в противоположность простому ощущению или мнению. Но в эпоху раннего христианства это слово означало уже интуитивное знание — спасительный дар, полученный от небесного посредника. Гностик — искра Божия, заключенная в ложном мире; человек, зараженный сверхчеловеческой силой. В отличие от привязанных к земле, казалось, лишь связанные с духом могли достичь правды и очищения. Гностицизм оказывался религией не для рабов, а для избранных. Гностическое откровение было насквозь мистично, содержало зерно бога и дьявола одновременно, зерно противоречия.
При всей плодовитости сегодняшнего текстового гностицизма, замечает Эко, он все же имеет несколько характерных положений: тот, кто постигает правду и направляет читателя, тот — сверхчеловек; спасти текст — значит всякую иллюзию смысла увязать с бесконечной тайной значений; слова не говорят, они скрывают; честь читателя — открыть, что текст говорит все, за исключением того, что хотел сказать автор; настоящий читатель тот, кто понимает, что тайна текста — его пустота. Гностицизм, как и герменевтика, страдает синдромом секрета…
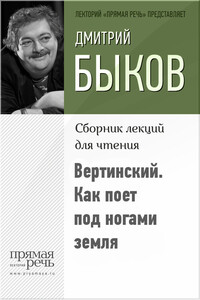
«Спасибо, господа. Я очень рад, что мы с вами увиделись, потому что судьба Вертинского, как никакая другая судьба, нам напоминает о невозможности и трагической ненужности отъезда. Может быть, это как раз самый горький урок, который он нам преподнес. Как мы знаем, Вертинский ненавидел советскую власть ровно до отъезда и после возвращения. Все остальное время он ее любил. Может быть, это оптимальный модус для поэта: жить здесь и все здесь ненавидеть. Это дает очень сильный лирический разрыв, лирическое напряжение…».
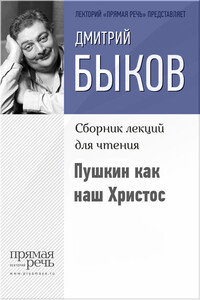
«Я никогда еще не приступал к предмету изложения с такой робостью, поскольку тема звучит уж очень кощунственно. Страхом любого исследователя именно перед кощунственностью формулировки можно объяснить ее сравнительную малоизученность. Здесь можно, пожалуй, сослаться на одного Борхеса, который, и то чрезвычайно осторожно, намекнул, что в мировой литературе существуют всего три сюжета, точнее, он выделил четыре, но заметил, что один из них, в сущности, вариация другого. Два сюжета известны нам из литературы ветхозаветной и дохристианской – это сюжет о странствиях хитреца и об осаде города; в основании каждой сколько-нибудь значительной культуры эти два сюжета лежат обязательно…».
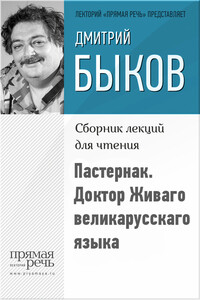
«Сегодняшняя наша ситуация довольно сложна: одна лекция о Пастернаке у нас уже была, и второй раз рассказывать про «Доктора…» – не то, чтобы мне было неинтересно, а, наверное, и вам не очень это нужно, поскольку многие лица в зале я узнаю. Следовательно, мы можем поговорить на выбор о нескольких вещах. Так случилось, что большая часть моей жизни прошла в непосредственном общении с текстами Пастернака и в писании книги о нем, и в рассказах о нем, и в преподавании его в школе, поэтому говорить-то я могу, в принципе, о любом его этапе, о любом его периоде – их было несколько и все они очень разные…».
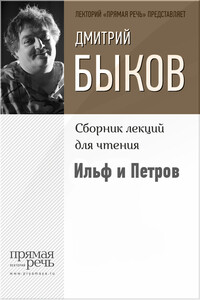
«Ильф и Петров в последнее время ушли из активного читательского обихода, как мне кажется, по двум причинам. Первая – старшему поколению они известны наизусть, а книги, известные наизусть, мы перечитываем неохотно. По этой же причине мы редко перечитываем, например, «Евгения Онегина» во взрослом возрасте – и его содержание от нас совершенно ускользает, потому что понято оно может быть только людьми за двадцать, как и автор. Что касается Ильфа и Петрова, то перечитывать их под новым углом в постсоветской реальности бывает особенно полезно.
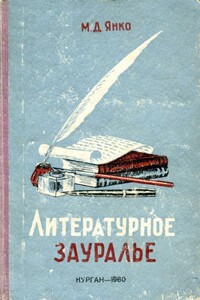
В предлагаемой вниманию читателей книге собраны очерки и краткие биографические справки о писателях, связанных своим рождением, жизнью или отдельными произведениями с дореволюционным и советским Зауральем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.