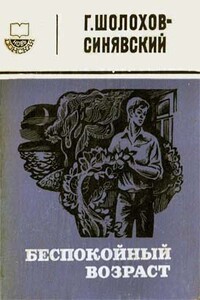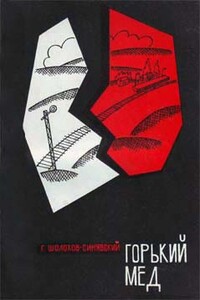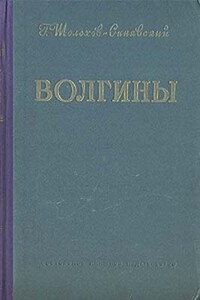Из калитки, которая вела на пасеку, слабым неуверенным шагом, чуть пошатываясь, шел отец. Он был темен, худ лицом и очень слаб, плечи его опустились, спина сгорбилась, но он был жив; он радостно смотрел на меня, мой добрый и строгий поводырь…
Холера не миновала и моего личного врага Петра Никитовича Панченко. Она настигла его прямо на молотильном току и обошлась с ним более жестоко. Жирное тело старосты как будто еще больше вздулось и посинело. Работники еле втащили его в светлицу.
В те годы многие домочадцы и близкие утаивали заболевших холерой: боялись, чтобы их не увезли на санитарный пункт. Кое-кто еще верил нелепым слухам о том, что доктора приканчивают больных, травят ядами… И вместо того чтобы послать в слободу, где находился холерный пункт, подводу за доктором, домашние предоставили Петру Никитовичу полную свободу умирать без врачебной помощи.
Когда мы узнали, что старосты не стало, мать набожно перекрестилась и облегченно вздохнула:
— Грешница я великая… Царство небесное Петру Никитовичу… Не жалко мне его…
И я, малыш, не осудил ее за эти слова. Внезапная смерть старосты отсрочила на неопределенное время наше выселение из адабашевского дома.
А через месяц отец и мать снарядили меня в школу. Еще летом казак-портной в хуторе Синявском сшил мне брюки и гимнастерку из серого, грубого сукна, пальтишко на вате, чудесное, теплое, как-то особенно ласково облегавшее тело. Сапожник стачал крепкие яловые сапожки, а чтобы не скоро сбились каблуки, приколотил к ним железные подковки. Отец купил кроличью шапку и рукавички, ранец из свиной кожи для тетрадей и книг.
Ранним утром, едва забрезжил рассвет, меня, одетого во все это великолепие, вывели во двор, усадили на тавричанскую бричку. Над синевато-темным краем степи занимался восход. Рассветный холодок мелким ознобом пробегал по телу. Нервная дрожь судорогой сводила челюсти. Меня увозили в казачий хутор, к чужим, неизвестным людям. Мать обняла меня, поцеловала в глаза и щеки, и я ощутил на губах соль ее слез.
Но я не плакал, и только сердце мое сжималось от страха перед неизвестностью.
Отец чмокнул губами, тронул вожжами добрых тавричанских коней. Бричка, безрессорная, тряская, загремела колесами по ранней влажной от росы дороге.
Я оглядывался, мысленно надолго прощаясь с хутором. Вот промелькнули мимо старые обветшалые амбары, пахнул прелой листвой и подгнившими фруктами-падалицами сад, уже кое-где тронутый осенней желтизной, промаячили у опушки на бугорке затравевшие могилки моих маленьких братьев и сестры Мотеньки. Косо накренившиеся зеленые кресты словно поклонились мне на прощание. Все заметнее стал отдаляться хутор: серый адабашевский дом на голом, поросшем лебедой бугре, ободранные, полуразвалившиеся хозяйственные постройки — пустая приземистая кузня, машинный сарай — пристанище филинов и сов, конюшня, птичник и наше прежнее обиталище — вросшая почти до самых окон в землю завалюшка-мазанка…
Уплывали назад, становились все меньше тавричанские дворы, длинные скирды соломы, старый ветряк.
Там, на хуторе, оставались мои дружки — Дёмка и Ёська, пастухи и подпаски, дети таких же, как и отец, батраков.
Вместе с хутором уплывала, отделялась незабвенная пора раннего детства, первых впечатлений, «факультетов природы», откровений жизни, печалей и радостей…
Впереди ждала другая пора, неизведанная и манящая, как нераскрытая таинственная книга.
Тревожную зарю сменяло не менее тревожное утро…
Конец первой части