Отец Сергий - [15]
— Ах, а я сказала дочери.
— Ну, попросите ее не говорить.
Сергий снял сапоги, лег и тотчас же заснул после бессонной ночи и сорока верст ходу.
Когда Прасковья Михайловна вернулась, Сергий сидел в своей каморке и ждал ее. Он не выходил к обеду, а поел супу и каши, которые принесла ему туда Лукерья.
— Что же ты раньше пришла обещанного? — сказал Сергий. — Теперь можно поговорить?
— И за что мне такое счастье, что такой посетитель. Я уж пропустила урок. После… Я мечтала все съездить к вам, писала вам, и вдруг такое счастье.
— Пашенька! пожалуйста, слова, которые я скажу тебе сейчас, прими как исповедь, как слова, которые я в смертный час говорю перед Богом. Пашенька! я не святой человек, даже не простой, рядовой человек: я грешник, грязный, гадкий, заблудший, гордый грешник, хуже, не знаю, всех ли, но хуже самых худых людей.
Пашенька смотрела сначала выпучив глаза; она верила. Потом, когда она вполне поверила, она тронула рукой его руку и, жалостно улыбаясь, сказала:
— Стива, может быть, ты преувеличиваешь?
— Нет, Пашенька. Я блудник, я убийца, я богохульник и обманщик.
— Боже мой! Что ж это? — проговорила Прасковья Михайловна.
— Но надо жить. И я, который думал, что все знаю, который учил других, как жить, — я ничего не знаю и я тебя прошу научить.
— Что ты, Стива. Ты смеешься. За что вы всегда смеетесь надо мной?
— Ну, хорошо, я смеюсь: только скажи мне, как ты живешь и как прожила жизнь?
— Я? Да я прожила самую гадкую, скверную жизнь, и теперь Бог наказывает меня, и поделом, и живу так дурно, так дурно…
— Как же ты вышла замуж? как жила с мужем?
— Все было дурно. Вышла — влюбилась самым гадким манером. Папа не желал этого. Я ни на что не посмотрела, вышла. И замужем, вместо того чтобы помогать мужу, я мучила его ревностью, которую не могла в себе победить.
— Он пил, я слышал.
— Да, но я-то не умела успокоить его. Упрекала его. А ведь это болезнь. Он не мог удержаться, а я теперь вспоминаю, как я не давала ему. И у нас были ужасные сцены.
И она смотрела прекрасными, страдающими при воспоминании глазами на Касатского.
Касатский вспоминал, как ему рассказывали, что муж бил Пашеньку. И Касатский видел теперь, глядя на ее худую, высохшую шею с выдающимися жилами за ушами и пучком редких полуседых, полурусых волос, как будто видел, как это происходило.
— Потом я осталась одна с двумя детьми и без всяких средств.
— Да ведь у вас было именье.
— Это еще при Васе мы продали и все… прожили. Надо было жить, а я ничего не умела — как все мы, барышни. Но я особенно плоха, беспомощна была. Так проживали последнее, я учила детей — сама немножко подучилась. А тут Митя заболел уже в четвертом классе, и Бог взял его. Манечка полюбила Ваню — зятя. И что ж, он хороший, но только несчастный. Он больной.
— Мамаша, — перебила ее речь дочь. — Возьмите Мишу, не могу я разорваться.
Прасковья Михайловна вздрогнула, встала и, быстро ступая в своих стоптанных башмаках, вышла в дверь и тотчас же вернулась с двухлетним мальчиком на руках, который валился назад и схватился ручонками за ее косынку.
— Да, так на чем я остановилась? Ну вот, было у него место тут хорошее — и начальник, такой милый, но Ваня не мог и вышел в отставку.
— Чем же он болен?
— Неврастенией, это ужасная болезнь. Мы советовались, но надо было ехать, но средств нет. Но я все надеюсь, что так пройдет. Особенно болей у него нет, но…
— Лукерья! — послышался его голос, сердитый и слабый. — Всегда ушлют куда-нибудь, когда ее нужно. Мамаша!..
— Сейчас, — опять перебила себя Прасковья Михайловна. — Он не обедал еще. Он не может с нами.
Она вышла, что-то устроила там и вернулась, обтирая загорелые худые руки.
— Так вот и живу. И все жалуемся, и все недовольны, а, слава Богу, внуки все славные, здоровые, и жить еще можно. Да что про меня говорить.
— Ну, чем же вы живете?
— А немножко я вырабатываю. Вот я скучала музыкой, а теперь как она мне пригодилась.
Она держала маленькую руку на комодце, у которого сидела, и как упражнения, перебирала худыми пальцами.
— Что же вам платят за уроки?
— Платят и рубль, и пятьдесят копеек, есть и тридцать копеек. Они все такие добрые ко мне.
— И что же, успехи делают? — чуть улыбаясь глазами, спросил Касатский.
Прасковья Михайловна не поверила сразу серьезности вопроса и вопросительно взглянула ему в глаза.
— Делают и успехи. Одна славная девочка есть, мясника дочь. Добрая, хорошая девочка. Вот если бы я была порядочная женщина, то, разумеется, по папашиным связям, я бы могла найти место зятю. А то я ничего не умела и вот довела их всех до этого.
— Да, да, — говорил Касатский, наклоняя голову. — Ну, а как вы, Пашенька, в церковной жизни участвуете? — спросил он.
— Ах, не говорите. Уж так дурно, так запустила. С детьми говею и бываю в церкви, а то по месяцам не бываю. Детей посылаю.
— А отчего же не бываете сами?
— Да правду сказать, — она покраснела, — да оборванной идти совестно перед дочерью, внучатами, а новенького нет. Да просто ленюсь.
— Ну, а дома молитесь?
— Молюсь, да что за молитва, так, машинально. Знаю, что не так надо, да нет настоящего чувства, только и есть, что знаешь всю свою гадость…

Рассказы, собранные в этой книге, были написаны великим русским писателем Львом Николаевичем Толстым (1828–1910) специально для детей. Вот как это было. В те времена народ был безграмотный, школ в городах было мало, а в деревнях их почти не было.Лев Николаевич Толстой устроил в своём имении Ясная Поляна школу для крестьянских детей. А так как учебников тоже не было, Толстой написал их сам.Так появились «Азбука» и «Четыре русские книги для чтения». По ним учились несколько поколений русских детей.Рассказы, которые вы прочтёте в этом издании, взяты из учебных книг Л.

Те, кто никогда не читал "Войну и мир", смогут насладиться первым вариантом этого великого романа; тех же, кто читал, ждет увлекательная возможность сравнить его с "каноническим" текстом. (Николай Толстой)

«Анна Каренина», один из самых знаменитых романов Льва Толстого, начинается ставшей афоризмом фразой: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Это книга о вечных ценностях: о любви, о вере, о семье, о человеческом достоинстве.
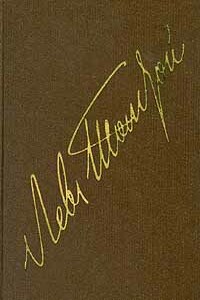
В томе печатается роман «Воскресение» (1889–1899) — последний роман Л. Н. Толстого.http://rulitera.narod.ru.

Детство — Что может быть интереснее и прекраснее открытия мира детскими глазами? Именно они всегда широко открыты, очень внимательны и на редкость проницательны. Поэтому Лев Толстой взглянул вокруг глазами маленького дворянина Николеньки Иртеньева и еще раз показал чистоту и низменность чувств, искренность и ложь, красоту и уродство...
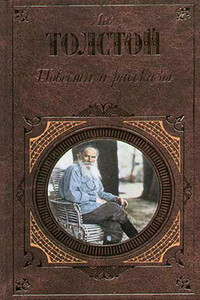
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) - русский писатель и публицист, по словам современников, соединивший человека и природу простой сердечной мыслью. В своих путешествиях по Русскому Северу Пришвин знакомился с бытом и речью северян, записывал сказы, передавая их в своеобразной форме путевых очерков. О начале своего писательства Пришвин вспоминает так: "Поездка всего на один месяц в Олонецкую губернию, я написал просто виденное - и вышла книга "В краю непуганых птиц", за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя даже себе всю глубину моего невежества в этой науке".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».

В тринадцатом томе собрания сочинений Матери с точки зрения интегральной Йоги Шри Ауробиндо рассматриваются фундаментальные вопросы воспитания, обучения, образования человеческой личности в наиболее важных областях ее развития. Много внимания уделяется также самым разнообразным особенностям роста и формирования личности детей и подростков. Книга будет полезна и всем, кто самостоятельно занимается совершенствованием своего существа. Характерной чертой ряда основных статей книги является отсутствие специальной терминологии Йоги, что делает их содержание доступным для всех интересующихся педагогической тематикой.

В повести «О мышах и людях» Стейнбек изобразил попытку отдельного человека осуществить свою мечту. Крестный путь двух бродяг, колесящих по охваченному Великой депрессией американскому Югу и нашедших пристанище на богатой ферме, где их появлению суждено стать толчком для жестокой истории любви, убийства и страшной, безжалостной мести… Читательский успех повести превзошел все ожидания. Крушение мечты Джорджа и Ленни о собственной небольшой ферме отозвалось в сердцах сотен тысяч простых людей и вызвало к жизни десятки критических статей.Собрание сочинений в шести томах.
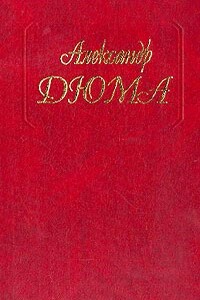
Роман Дюма «Робин Гуд» — это детище его фантазии, порожденное английскими народными балладами, а не историческими сочинениями. Робин Гуд — персонаж легенды, а не истории.

Самобытный талант русского прозаика Виктора Астафьева мощно и величественно звучит в одном из самых значительных его произведений — повествовании в рассказах «Царь-рыба». Эта книга, подвергавшаяся в советское время жестокой цензуре и критике, принесла автору всенародное признание и мировую известность.Собрание сочинений в пятнадцати томах. Том 6. «Офсет». Красноярск. 1997.