От письма до письма - [7]
— Думала — гренадер?
— Ага. А вы мне по плечо.
— Не беда! — он побледнел от бешенства и облизал враз пересохшие губы. — Обойдусь без лестницы.
Он стремительно шагнул к ней и крепко обнял, вложив в движение излишнюю силу, она и не думала отстраняться. Он почувствовал, как под руками что-то нежно хрустнуло, и ослабил хватку. Всем большим и теплым телом она приникла к нему, беспомощно навалилась, и пришлось напрячь мускулы, чтобы удержать ее. Он обонял молочный запах чистого тела и полотняной ткани. Пушкину хотелось поцеловать ее в губы, но не дотянуться было. Тогда он стал отступать к дерновой скамейке и вдруг почувствовал сопротивление. Но теперь он верил ей и подчинился. Девушка не просто упиралась — сама влекла его куда-то. К сторожке. У порога Пушкин наклонился, поднял ее, ударом ноги распахнул дверцу и внес в пахнущий душистым сеном сумрак. Он угадал справа лежак, крытый рядном, и осторожно опустил на него Февронью.
Он ждал отпора, девушка была сильной, но ее готовность, неловкая, торопливая покорность отрезвили его. Все это уже было. Издалека наплыло жалкое, испуганное лицо Ольги Калашниковой. Потом Ольга полюбила его, так ему, во всяком случае, казалось, но в первое, страшное для девушки свидание ею двигала лишь тупая подчиненность барину, втемяшенная в слабую голову наказами Арины Родионовны. Он не хотел повторения. Не разумом, сама плоть воспротивилась этому.
— Прости, — сказал он хрипло. — Я забылся… Ты красивая, добрая. Дождись своего человека.
— Александр Сергеич, милый друг, — сказала она вразумляюще, как ребенку. — Мне не нужен другой человек. Вы забыли — я же вольная.
Она угадала, что в нем происходит, это говорило о немалом душевном и, наверное, женском опыте. Волна накатила и захлестнула.
Потом Февронья тихо плакала, и он не удержался от ненужного вопроса:
— Почему ты не сказала?
— Зачем?
— Чтоб не плакать.
— Потому и не сказала. Я не честь свою оплакиваю, я — от счастья.
— Странная ты девушка.
— Женщина, — поправила она.
— Ты правда не жалеешь?
— О чем жалеть? Это мечта моя: подарить себя тому, кого полюблю. А я вас загодя полюбила. Вы не жалейте, Александр Сергеич, и ничем себя не упрекайте, не томите. Вы мне счастье дали.
— Что ты — как прощаешься?
— Нет, я не прощаюсь. Будут у нас встречи. Да ведь придется же…
— Придется. Чего мне тебя обманывать? Я — жених.
— Завидую я вашей невесте, Александр Сергеич! — послышалось с лежака.
Пушкин расхохотался. И с этим громким, не циничным, но откровенно признающим свою человечью слабость смехом пришло к нему освобождение, великая, давно забытая легкость, спасавшая его душу во всех тяготах не столь долгой, но буркой жизни. Только сейчас он понял, как тяжело, кромешно, душно жил в последние годы. Духота была во всем: в и спрашивании разрешения на каждый, дозволенный любому человеку шаг, в надзоре и слежке голубых мундиров, в вечных подозрениях и придирках властей; духота была в сватовстве, на которое он, человек не чиновный, не занимающий никакой должности, обязан был получить согласие царя; духота в отношениях с тещей — алчной угрюмой ханжой, в домогательствах патриарха семьи, Дедушки, впившегося в него, как клещ, — хотел загнать казне через Пушкина бронзовую Бабушку — статую Екатерины, отлитую в запоздалом угодничестве на гончаровских заводах, и даже в холодном совершенстве его невесты, замороженной Мадонны, которая когда-нибудь оттает, но только не для него, в сплетнях и пересудах, сопровождающих каждый его шаг, бешеной журнальной травле, а главное — в невозможности хоть на время вырваться из этой духоты и глотнуть свежего воздуха. Но самое печальное: он позволил себя затравить, он расчесывает ранки журнальных укусов — и они не заживают, он утратил тот сосредоточенный покой, в котором перемогалось житейское волнение; нервный, издерганный, легко плачущий, он стал на себя непохож. Но самым нетерпимым был заговор в доме на Никитской: оскорбительные нотации тещи, ее полуобещания-полуотказы, завершившиеся согласием, которому не было веры, настороженность и отчуждение на прелестном лице той, которой он жертвует душевной свободой, своим единственным достоянием, она не дала ему и тени радости, не подарила и жеста доброты. Так бывает на сцене, когда бестемпераментность одного актера заставляет другого играть за двоих. На театре это изнурительно и докучно, в жизни — доводит до отчаяния. Лишь одного добился он: твердой уверенности, что счастье — не для него. Его сильное тело, обреченное на отшельническое воздержание, стало ему в тягость. Он, привыкший быть радостью для женщин, столкнулся с таким пренебрежением, что потерял уверенность в себе, порой казалось, что в доме на Никитской проведали о каком-то его тайном ущербе, уродливом изъяне.
А сейчас эта чистая, красивая, сильная девушка, отдавшая себя так щедро и полно, вернула ему веру в свое мужское достоинство, вернула к самому себе. И успокоившаяся плоть не докучала больше унизительным скулежом, он вновь был тем Пушкиным, который мог любой женщине подарить и забвение, и счастье. Благодарность, нежность, плавящая сердце, признательность — до горлового спазма — за ничем не заслуженную жертву слагались в чувство, близкое любви.

Молодая сельская учительница Анна Васильевна, возмущенная постоянными опозданиями ученика, решила поговорить с его родителями. Вместе с мальчиком она пошла самой короткой дорогой, через лес, да задержалась около зимнего дуба…Для среднего школьного возраста.

В сборник вошли последние произведения выдающегося русского писателя Юрия Нагибина: повести «Тьма в конце туннеля» и «Моя золотая теща», роман «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя».Обе повести автор увидел изданными при жизни назадолго до внезапной кончины. Рукопись романа появилась в Независимом издательстве ПИК через несколько дней после того, как Нагибина не стало.*… «„Моя золотая тёща“ — пожалуй, лучшее из написанного Нагибиным». — А. Рекемчук.

В настоящее издание помимо основного Корпуса «Дневника» вошли воспоминания о Галиче и очерк о Мандельштаме, неразрывно связанные с «Дневником», а также дается указатель имен, помогающий яснее представить круг знакомств и интересов Нагибина.Чтобы увидеть дневник опубликованным при жизни, Юрий Маркович снабдил его авторским предисловием, объясняющим это смелое намерение. В данном издании помещено эссе Юрия Кувалдина «Нагибин», в котором также излагаются некоторые сведения о появлении «Дневника» на свет и о самом Ю.

Дошкольник Вася увидел в зоомагазине двух черепашек и захотел их получить. Мать отказалась держать в доме сразу трех черепах, и Вася решил сбыть с рук старую Машку, чтобы купить приглянувшихся…Для среднего школьного возраста.

Семья Скворцовых давно собиралась посетить Богояр — красивый неброскими северными пейзажами остров. Ни мужу, ни жене не думалось, что в мирной глуши Богояра их настигнет и оглушит эхо несбывшегося…

Довоенная Москва Юрия Нагибина (1920–1994) — по преимуществу радостный город, особенно по контрасту с последующими военными годами, но, не противореча себе, писатель вкладывает в уста своего персонажа утверждение, что юность — «самая мучительная пора жизни человека». Подобно своему любимому Марселю Прусту, Нагибин занят поиском утраченного времени, несбывшихся любовей, несложившихся отношений, бесследно сгинувших друзей.В книгу вошли циклы рассказов «Чистые пруды» и «Чужое сердце».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Новеллы А. Бараша (1889–1952), писателя поколения Второй алии, посвящены судьбе евреев в различные периоды истории народа.

Я хотел бы в этом очерке рассказать не о крупных событиях и не о роли сталинизма, а о некоторых совсем, казалось бы, мелких событиях, протекающих поначалу в небольшом грузинском городе Гори еще в конце прошлого века. Речь пойдет о детстве и отрочестве Сталина и о его родителях, в первую очередь о матери Иосифа - Екатерине Джугашвили. Мы знаем, что именно события раннего детства и отношения с родителями определяют во многом становление личности каждого человека.

Второй том романа «Мечтатели Бродвея» – и вновь погружение в дивный Нью-Йорк! Город, казавшийся мечтой. Город, обещавший сказку. Город, встречи с которым ждешь – ровно как и с героями полюбившегося романа. Джослин оставил родную Францию, чтобы найти себя здесь – на Бродвее, конечно, в самом сердце музыкальной жизни. Только что ему было семнадцать, и каждый новый день дарил надежду – но теперь, на пороге совершеннолетия, Джослин чувствует нечто иное. Что это – разочарование? Крушение планов? Падение с небес на землю? Вовсе нет: на смену прежним мечтам приходят новые, а с ними вместе – опыт. Во второй части «Мечтателей» действие разгоняется и кружится в том же сумасшедшем ритме, но эта музыка на фоне – уже не сладкие рождественские баллады, а прохладный джаз.
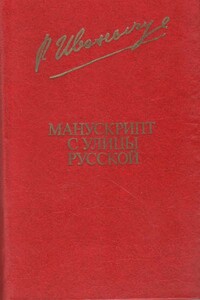
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.