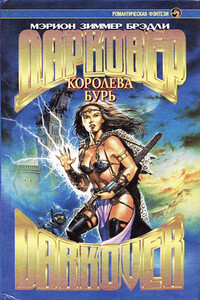От первого лица... (Рассказы о писателях, книгах и словах) - [7]
Читатель быстро улавливает эту манеру и без особых усилий ставит поправочные кавычки там, где они предполагаются.
Рассказ «Два помещика» начинается так:
«Я уже имел честь представить вам, благосклонные читатели, некоторых моих господ соседей; позвольте же мне теперь, кстати (для нашего брата писателя всё кстати), познакомить вас еще с двумя помещиками, у которых я часто охотился, с людьми весьма почтенными, благонамеренными и пользующимися всеобщим уважением нескольких уездов».
Чрезмерный напор на хвалебные эпитеты — «почтенные», «пользующиеся всеобщим уважением», да еще «в нескольких уездах», и в особенности подмоченное словцо «благонамеренные» — сразу настраивает чуткого читателя на необходимость поправочного коэффициента. В дальнейшем она подтверждается вполне. Один из помещиков, отставной генерал Хвалынский, в молодые годы «облачившись в полную парад-форму и даже застегнув крючки, парил своего начальника в бане...», а второй, «предобрый» помещик Стегунов (фамилия, много говорящая читателю, настроенному на намекающую интонацию), слушая, как секут мужика, «произнес с добрейшей улыбкой и как бы невольно вторя ударам: «Чюки-чюки-чюк! Чюки-чюк! Чюки-чюк!»
Конечно, такая манера повествования не изобретение Тургенева. Но в «Записках охотника» намекающая интонация приобретает принципиальное значение и играет главную роль среди прочих художественных средств.
Запрет, наложенный николаевским режимом, предполагал разговор на тему крепостного права украдкой, шепотом. Манера намекающего, затаенного разговора лучше всяких пространных описаний передавала затхлую атмосферу царской России конца 40-х и начала 50-х годов прошлого столетия, и не только передавала, но обличала и бичевала ее.
Все рассказы «Записок» оказываются как бы погруженными в атмосферу настороженного намека, умолчания, иносказания. И тогдашний читатель, которого, по словам Герцена, «узкое самовластье приучило догадываться и понимать затаенное слово», ясно ощущал в рассказах то, что Тургенев называл arriere pensees (задней мыслью), и ни на минуту не забывал, что речь-то идет, в сущности, о недозволенном.
Намекающая интонация служит эмоциональным фоном, на котором развивается действие.
Читателю, по каким-либо причинам не ощущающему этого фона, ради тренировки стоит прочесть сразу, один за другим, два рассказа «Записок»: «Бурмистр», написанный в 1847 году, где этот фон чрезвычайно силен, и «Живые мощи», написанный в 1873 году, начисто этого фона лишенный.
«Бурмистр» вызывает чувство возмущения, негодования. В «Живых мощах» все благостно и умильно. Забытая всеми умирающая Лукерья виновата в своей болезни сама: послышался ей ночью голос любимого, она оступилась и упала с рундучка... И всех-то она любит, и никого не винит: «Барин, милый, кто другому помочь может? Кто ему в душу войдет? Сам себе человек помогай!» Если тридцать лет назад во многих рассказах «Записок» Тургенев изображал положение крепостной крестьянки как рабство в квадрате, подчеркивал полную беззащитность ее не только против помещика, но и против крепостного раба — мужа, свекра, которые измываются над ней как хотят, прикрываясь изречением тургеневского кучера из «Касьяна с Красивой Мечи»: «...у баб слезы-то некупленные. Бабьи слезы та же вода...» Но когда сама Лукерья произносит слова: «У нашей сестры слезы некупленные» — это звучит приторно и фальшиво, так же приторно, как и умиление доброго барина, пообещавшего доставить ей «скляночку» с лекарством.
В связи с этим рассказом может возникнуть вопрос: понимал ли сам автор разрушительную, революционную силу намекающей интонации или она возникала под его пером непроизвольно, интуитивно?
Думаю, что понимал.
В годы писания «Записок» появилась любопытная рецензия на повести Даля. В этой рецензии, между прочим, было сказано:
«Он, как говорится, себе на уме, смотрит невиннейшим человеком и добродушнейшим сочинителем в мире; вдруг вы чувствуете, что вас поймали за хохол, когти в вас запустили преострые; вы оглядываетесь,— автор стоит перед вами как ни в чем не бывало... «Я, говорит, тут сторона, а вы как поживаете?»
Автором рецензии был И. Тургенев.
Зачем же он включил «Живые мощи» в «Записки»?
Ответ, по-моему, прост: в 1873 году это был уже другой Тургенев...
Читатель может возразить, что рассуждения о намекающей интонации, если примерять их к конкретным рассказам, сомнительны и, как теперь вежливо выражаются, «по меньшей мере спорны». Действительно, в некоторых рассказах помещики разоблачаются без всяких «интонаций» — открыто, резким, сатирическим штрихом (в «Бурмистре» глядящий на бедолагу мужика сквозь усы Пеночкин — готовая иллюстрация в стиле Кукрыниксов).
Мне кажется, что намекающая интонация не только не исключает, но и предполагает открытое изображение отрицательных персонажей; они-то и являются причиной намекающей интонации, они-то и оправдывают ее. Если бы в «Записках» не было пеночкиных, зверковых, стегуновых, хрякхуперских и чертопхановых, такая интонация выродилась бы в беспредметное манерничание.
Гротеск — крайняя степень намекающей интонации. Характерной чертой этого приема является многообразие градаций — от злой карикатуры до смутного, едва заметного намека, иногда и не рассчитанного на то, чтобы читатель его явственно осознал.

Семь повестей Сергея Антонова, объединенных в сборнике, — «Лена», «Поддубенские частушки», «Дело было в Пенькове», «Тетя Луша», «Аленка», «Петрович» и «Разорванный рубль», — представляют собой как бы отдельные главы единого повествования о жизни сельской молодежи, начиная от первых послевоенных лет до нашего времени. Для настоящего издания повести заново выправлены автором.

Семь повестей Сергея Антонова, объединенных в сборнике, — «Лена», «Поддубенские частушки», «Дело было в Пенькове», «Тетя Луша», «Аленка», «Петрович» и «Разорванный рубль», — представляют собой как бы отдельные главы единого повествования о жизни сельской молодежи, начиная от первых послевоенных лет до нашего времени. Для настоящего издания повести заново выправлены автором.

Семь повестей Сергея Антонова, объединенных в сборнике, — «Лена», «Поддубенские частушки», «Дело было в Пенькове», «Тетя Луша», «Аленка», «Петрович» и «Разорванный рубль», — представляют собой как бы отдельные главы единого повествования о жизни сельской молодежи, начиная от первых послевоенных лет до нашего времени. Для настоящего издания повести заново выправлены автором.

Семь повестей Сергея Антонова, объединенных в сборнике, — «Лена», «Поддубенские частушки», «Дело было в Пенькове», «Тетя Луша», «Аленка», «Петрович» и «Разорванный рубль», — представляют собой как бы отдельные главы единого повествования о жизни сельской молодежи, начиная от первых послевоенных лет до нашего времени. Для настоящего издания повести заново выправлены автором.

Семь повестей Сергея Антонова, объединенных в сборнике, — «Лена», «Поддубенские частушки», «Дело было в Пенькове», «Тетя Луша», «Аленка», «Петрович» и «Разорванный рубль», — представляют собой как бы отдельные главы единого повествования о жизни сельской молодежи, начиная от первых послевоенных лет до нашего времени. Для настоящего издания повести заново выправлены автором.

Семь повестей Сергея Антонова, объединенных в сборнике, — «Лена», «Поддубенские частушки», «Дело было в Пенькове», «Тетя Луша», «Аленка», «Петрович» и «Разорванный рубль», — представляют собой как бы отдельные главы единого повествования о жизни сельской молодежи, начиная от первых послевоенных лет до нашего времени. Для настоящего издания повести заново выправлены автором.
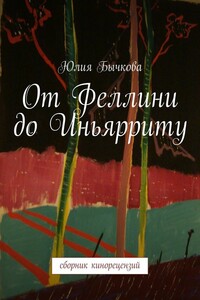
В книге собраны кинорецензии к более, чем шестидесяти фильмам – Бергмана, Феллини, Кустурицы, Джармуша, Финчера, Иньярриту, Ромма, Кончаловского и других известных мастеров кино.

«Спасибо, господа. Я очень рад, что мы с вами увиделись, потому что судьба Вертинского, как никакая другая судьба, нам напоминает о невозможности и трагической ненужности отъезда. Может быть, это как раз самый горький урок, который он нам преподнес. Как мы знаем, Вертинский ненавидел советскую власть ровно до отъезда и после возвращения. Все остальное время он ее любил. Может быть, это оптимальный модус для поэта: жить здесь и все здесь ненавидеть. Это дает очень сильный лирический разрыв, лирическое напряжение…».
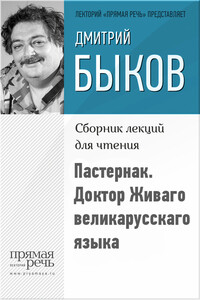
«Сегодняшняя наша ситуация довольно сложна: одна лекция о Пастернаке у нас уже была, и второй раз рассказывать про «Доктора…» – не то, чтобы мне было неинтересно, а, наверное, и вам не очень это нужно, поскольку многие лица в зале я узнаю. Следовательно, мы можем поговорить на выбор о нескольких вещах. Так случилось, что большая часть моей жизни прошла в непосредственном общении с текстами Пастернака и в писании книги о нем, и в рассказах о нем, и в преподавании его в школе, поэтому говорить-то я могу, в принципе, о любом его этапе, о любом его периоде – их было несколько и все они очень разные…».

«Ильф и Петров в последнее время ушли из активного читательского обихода, как мне кажется, по двум причинам. Первая – старшему поколению они известны наизусть, а книги, известные наизусть, мы перечитываем неохотно. По этой же причине мы редко перечитываем, например, «Евгения Онегина» во взрослом возрасте – и его содержание от нас совершенно ускользает, потому что понято оно может быть только людьми за двадцать, как и автор. Что касается Ильфа и Петрова, то перечитывать их под новым углом в постсоветской реальности бывает особенно полезно.