От Гомера до Данте - [45]
Аристотель в своей «Поэтике», оставаясь верным основным принципам собственной философии, разбирает в основном греческую трагедию и обращает внимание на форму её построения. Делает он это лишь потому, что форма и есть та самая идея, о которой говорил Платон, но только идея не существующая в отрыве от материала, или словесного содержания трагедии, а присутствующая непосредственно в перипетии, в узнавании, в катарсисе, наконец. Именно безупречная форма и способна сделать трагедию по-настоящему глубокой и даже философской. Идеальная форма изложения и поднимает зрителя над бытом, над правдой факта, так как форма – это не факт, а нечто большее. Форма имеет отношение к общностям. Аристотель считал, что подражание жизни совершается в искусстве разными способами: ритмом, словом, гармонией. Но, говоря о том, что искусство подражает жизни, бытию, Аристотель не отождествляет подражание с копированием, наоборот, он настаивает на том, что в искусстве должно быть и обобщение, и художественный вымысел.
Так, по его мнению, «задача поэта – говорить не о действительно случившемся, но о том, что могло бы случиться, следовательно, о возможном – по вероятности или по необходимости».
Историк «говорит о действительно случившемся, поэт – о том, что могло бы случиться. Поэтому поэзия философичнее и серьезнее истории: поэзия говорит более об общем, история – об единичном».
На первый план из всех видов искусства Аристотель выдвигает поэзию, а из форм поэзии выше всего ставит трагедию. Он считает, что в трагедии есть то, что и в эпосе, то есть изображение событий, и то, что в лирике, то есть изображение эмоций. Однако в трагедии, кроме того, есть наглядное изображение, представление на сцене, чего нет ни в эпосе, ни в лирике. Отметим это стремление Аристотеля соединить воедино и изображение эпических событий, и событий внутренней жизни человека. Эта апелляция к жизни человеческой души и позволяет говорить о том, что художественный текст трагедии всегда вызывает внутреннее напряжение у зрителя, включая его в процесс мучительной (трагедия – это всегда изображение чьих-то страданий) философской мысли. Эстетические переживания, таким образом, по Аристотелю, мало чем будут отличаться от свободного философствования. Ведь любая драма основана на диалоге, а, по мнению отечественного философа В.С. Библера, свободная творческая мысль может существовать только в диалоге (В.С. Библер. «Что есть философия?»). Вот эту эстетическую природу философской мысли как никто другой первым уловил и смог выразить в своём трактате Аристотель. И у этой гениальной догадки появилась мощная историческая перспектива.
Здесь следует заметить, что культура вся покоится на традициях. Если культура – это память (Ю.М. Лотман. «Память в культурном освещении»), то именно в традиции наша память и живёт. Так, Ю.М. Лотман пишет: «С точки зрения семиотики, культура представляет собой коллективный интеллект и коллективную память, т. е. надындивидуальный механизм хранения и передачи некоторых сообщений (текстов) и выработки новых. В этом смысле пространство культуры может быть определено как пространство некоторой общей памяти, т. е. пространство, в пределах которого некоторые общие тексты могут сохраняться и быть актуализированы». Тексты Платона и Аристотеля, в этом смысле, и есть основа нашей европейской культуры. А теперь представьте, что было бы, если во взгляде на искусство возобладала бы точка зрения Платона и идея выгнать Гомера и всех великих трагиков из идеального государства взяла бы верх? Вспомните, в шестидесятые в СССР актуальным был спор между физиками и лириками. А в середине XIX столетия революционеры-демократы (Д.И. Писарев, например, подвергали уничтожающей критике всё художественное творчество А.С. Пушкина). Это противоборство даже нашло своё воплощение в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Да и сейчас некоторые горячие головы (например, публицист А. Невзоров) открыто отрицают в СМИ значение и смысл художественной литературы и русской классической в частности. Как видим, ещё со времён античности этот спор не утихает, потому что идеи подобны вирусам: они могут впадать на время в спячку, чтобы потом вновь выстрелить с необычайной силой. И слава Аристотелю, учёному, философу и разностороннему эрудиту, который своим мощным авторитетом выступил в качестве адвоката и защитил перед многими горячими головами права художественного вымысла на глубокую философскую мысль, пусть и окрашенную в яркую эмоциональность! А, может быть, именно эта эмоциональность и важна прежде всего? Если мысль холодна, то она редко когда станет вашим убеждением. Лишь мысль эмоционально окрашенная ангажирует всё ваше существо, становится вашей судьбой, превращается в ваше убеждение, за которое вы готовы пойти на любые жертвы. И тогда это убеждение становится вполне материальным. Мысль обретает материю, как душа – тело, или, по Аристотелю, форма преобразует материю, ибо формой всех форм является Бог.
Вот и разбирает философ с завидной скрупулёзностью все нюансы формы классической трагедии. И восхищается тем, как это удалось Софоклу в его «царе Эдипе». Потому что именно здесь, в этой трагедии трагедий человек осмелился задать вопрос самой Судьбе, перед которой немели даже боги Олимпа. «За что?» Эдип здесь вопрошает за всех за нас. За тех, кто никогда не осмелится, кому не хватит голоса! За что? И за эту дерзость он расплачивается убийством собственного отца, женитьбой на собственной матери, когда дети его – это братья и сёстры, когда он лишается отцовства и становится изгоем и как невероятного изгоя его живым принимает сам Аид («Эдип в Колоне»), потому что достигнут предел страданий, и теперь даже сама Смерть потеряла значение. И если формой всех форм является Бог, а трагедия Софокла – само совершенство, то это сам Бог вдохновляет человека на такой вопрос. Вопрос, превосходящий весь его предыдущий опыт безмолвного подчинения божественной воле и Судьбе, вопрос, превосходящий всякую меру человеческого страдания. Потому что Богу тоже понадобился собеседник, потому что только в диалоге и можно творить! А Бог – Творец, и ему необходим диалог. И всё дело лишь в том, как мастерски этот диалог надо выстроить.

Главная черта литературно-художественного процесса – постоянное взаимодействие разных направлений мировой культуры и влияние их друг на друга. Чем похожи «Властелин Колец» и «Война и мир»? Как повлиял рыцарский роман и античная литература на Александра Сергеевича Пушкина? Что общего у Достоевского, Шиллера и Канта? На эти и другие вопросы отвечает легендарный преподаватель – профессор Евгений Жаринов. Евгений Викторович Жаринов – доктор филологических наук, профессор кафедры литературы Московского государственного лингвистического университета, профессор Гуманитарного института телевидения и радиовещания им.
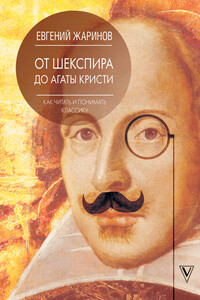
Как чума повлияла на мировую литературу? Почему «Изгнание из рая» стало одним из основополагающих сюжетов в культуре возрождения? «Я знаю всё, но только не себя»,□– что означает эта фраза великого поэта-вора Франсуа Вийона? Почему «Дон Кихот» – это не просто пародия на рыцарский роман? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в новой книге профессора Евгения Жаринова, посвященной истории литературы от самого расцвета эпохи Возрождения до середины XX века. Книга адресована филологам и студентам гуманитарных вузов, а также всем, кто интересуется литературой. Евгений Викторович Жаринов – доктор филологических наук, профессор кафедры литературы Московского государственного лингвистического университета, профессор Гуманитарного института телевидения и радиовещания им.

Просмотр сериалов – на первый взгляд несерьезное времяпрепровождение, ставшее, по сути, частью жизни современного человека.«Высокое» и «низкое» в искусстве всегда соседствуют друг с другом. Так и современный сериал – ему предшествует великое авторское кино, несущее в себе традиции классической живописи, литературы, театра и музыки. «Твин Пикс» и «Игра престолов», «Во все тяжкие» и «Карточный домик», «Клан Сопрано» и «Лиллехаммер» – по мнению профессора Евгения Жаринова, эти и многие другие работы действительно стоят того, что потратить на них свой досуг.
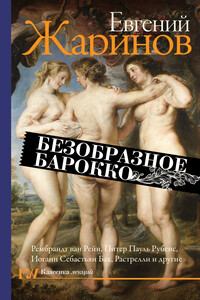
Как барокко может быть безобразным? Мы помним прекрасную музыку Вивальди и Баха. Разве она безобразна? А дворцы Растрелли? Какое же в них можно найти безобразие? А скульптуры Бернини? А картины Караваджо, величайшего итальянского художника эпохи барокко? Картины Рубенса, которые считаются одними из самых дорогих в истории живописи? Разве они безобразны? Так было не всегда. Еще меньше ста лет назад само понятие «барокко» было даже не стилем, а всего лишь пренебрежительной оценкой и показателем дурновкусия – отрицательной кличкой «непонятного» искусства. О том, как безобразное стало прекрасным, как развивался стиль барокко и какое влияние он оказал на мировое искусство, и расскажет новая книга Евгения Викторовича Жаринова, открывающая цикл подробных исследований разных эпох и стилей.
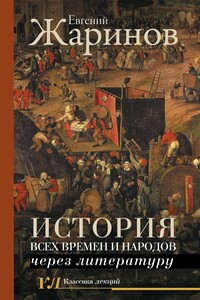
Как чума повлияла на мировую литературу? Почему «Изгнание из рая» стало одним из основополагающих сюжетов в культуре Возрождения? Чем похожи «Властелин Колец» и «Война и мир»? Как повлиял рыцарский роман и античная литература на Александра Сергеевича Пушкина? Почему «Дон Кихот» – это не просто пародия на рыцарский роман? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете, прочитав книгу профессора Евгения Жаринова, посвященную истории культуры и литературы, а также тонкостям создания всемирно известных шедевров.

У каждой эпохи есть и обратная, неприглядная сторона. Просвещение закончилось кровавой диктатурой якобинцев и взбесившейся гильотиной. Эротомания превратилась в достоинство и знаменитые эротоманы, такие, как Казанова, пользовались всеевропейской славой. Немодно было рожать детей, и их отправляли в сиротские приюты, где позволяли спокойно умереть. Жан-Жак Руссо всех своих законных детей отправлял в приют, но при этом написал роман «Эмиль», который поднимает важные проблемы свободного, гармоничного воспитания человека в эпоху века Разума.

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.

Книга доктора филологических наук профессора И. К. Кузьмичева представляет собой опыт разностороннего изучения знаменитого произведения М. Горького — пьесы «На дне», более ста лет вызывающего споры у нас в стране и за рубежом. Автор стремится проследить судьбу пьесы в жизни, на сцене и в критике на протяжении всей её истории, начиная с 1902 года, а также ответить на вопрос, в чем её актуальность для нашего времени.

Научное издание, созданное словенскими и российскими авторами, знакомит читателя с историей словенской литературы от зарождения письменности до начала XX в. Это первое в отечественной славистике издание, в котором литература Словении представлена как самостоятельный объект анализа. В книге показан путь развития словенской литературы с учетом ее типологических связей с западноевропейскими и славянскими литературами и культурами, представлены важнейшие этапы литературной эволюции: периоды Реформации, Барокко, Нового времени, раскрыты особенности проявления на словенской почве романтизма, реализма, модерна, натурализма, показана динамика синхронизации словенской литературы с общеевропейским литературным движением.

«Сказание» афонского инока Парфения о своих странствиях по Востоку и России оставило глубокий след в русской художественной культуре благодаря не только резко выделявшемуся на общем фоне лексико-семантическому своеобразию повествования, но и облагораживающему воздействию на души читателей, в особенности интеллигенции. Аполлон Григорьев утверждал, что «вся серьезно читающая Русь, от мала до велика, прочла ее, эту гениальную, талантливую и вместе простую книгу, — не мало может быть нравственных переворотов, но, уж, во всяком случае, не мало нравственных потрясений совершила она, эта простая, беспритязательная, вовсе ни на что не бившая исповедь глубокой внутренней жизни».В настоящем исследовании впервые сделана попытка выявить и проанализировать масштаб воздействия, которое оказало «Сказание» на русскую литературу и русскую духовную культуру второй половины XIX в.

Появлению статьи 1845 г. предшествовала краткая заметка В.Г. Белинского в отделе библиографии кн. 8 «Отечественных записок» о выходе т. III издания. В ней между прочим говорилось: «Какая книга! Толстая, увесистая, с портретами, с картинками, пятнадцать стихотворений, восемь статей в прозе, огромная драма в стихах! О такой книге – или надо говорить все, или не надо ничего говорить». Далее давалась следующая ироническая характеристика тома: «Эта книга так наивно, так добродушно, сама того не зная, выражает собою русскую литературу, впрочем не совсем современную, а особливо русскую книжную торговлю».