От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России - [47]
«Ах, В. В., эти смиренные, совершенно так же молящиеся старушки, с этою же теплою верой и простотой, – неужели вы думаете, их нет в протестантстве и католичестве? Поезжайте в Шварцвальд, в Тироль; да что…» И он махнул рукой. В словах этих, сперва механически мною выслушанных, заключается, в сущности, целое мировоззрение, и собственно с этого и надо бы начать толки о «соединении церквей», оставив вовсе в стороне и разницу догматов, и соперничество иерархий. Если когда суждено объединиться христианскому миру, он объединится из народных масс, снизу, а не сверху. И началом объединения послужит та простая страховская истина (да укрепим за ним эту честь), что ко Христу и католик, протестант, и православный равно относятся, то же в Нем чувствуют, так же Ему молятся. И что, следовательно, помолиться есть основание и почва каждому русскому за каждого поляка, вообще католика, за каждого немца и лютеранина. Ранее или позже этот мир сердец народных увлек бы к миру и иерархию, и догмат, вызвав отношение к разницам в последних, т. е. собственно к религиозной философии, такое же, как к разницам в культе, в предании, в обычае вер. Не нужно слияние, униформность. Перед Престолом Божиим, в «Апокалипсисе», стоят и молятся не одно, а четыре животных – орел, лев, телец, человек. Почему это не указание, не «откровение», что Богу и не нужна униформная молитва, что Сам Бог хочет видеть народы идущими к Нему во всем узоре разноцветных одежд своих и глаголющими к Нему свое слово на неисчислимых наречиях, неисчислимыми логиками. В основе разницы вер, как и разницы языков, лежат разницы этнографические. Но вера есть такой же природный цветок, неуничтожимый species fidei, как и какой-нибудь говор. Если в Христе, в сущности, уже сейчас примирены все европейцы, то отдаленные – в Отце Небесном, распростертом «над худым и добрым», примирены европейцы и с сирийцем, с арабом, молящимся «на запад солнца», «вечернему свету», молящимся с таким же трепетом к Богу, как мы. Но как нам уже трудно постигнуть, «приять в сердце» римского понтифекса или ученого протестантского пастора – по расхождению кровей и психологии, – еще труднее нам, уже почти невозможно что-нибудь понять в сирийце, арабе. Но это наша граница, преемников Синеуса, Трувора, Рюрика, а не граница человечества, преемника Адама.
В спорах того времени, середины 90-х годов, и мне пришлось принять участие – полемикою с Соловьевым.
Мне представлялось в ту пору (и чуть ли это не есть довольно распространенное представление), что православие – это древняя и тихая старушка, потерявшая силу, молодость и красоту, но с великим прошлым, а главное, которая никого никогда не обидела; и вот мимо этой старушки идут упитанные и счастливые сегодняшней свежестью господа, вроде Чаадаева, Соловьева и всех наших либералов, и толкают ее, и задевают локтем, не только неглижорски, но даже и зло. Всегда для меня слово «православие» просто выражало «приходскую церковь во время литургии»; ее же я любил, как исключительное и единственное место, где никогда и никакой человек не бывает обижен. Часто посещая церковную службу, всегда стоя там, я думал: «Везде есть разделения людей, везде есть ум и злоба, высшие и низшие, ученые и неученые, и везде-то, везде человек обижен: ученик – учителем, мужик – барином, чиновник – начальником. Только одно есть место на земле, куда какой бы обиженный пи пришел, он перестает чувствовать себя обиженным, и никто на него так не смотрит, и он, как с ангелами и Богом, выше и в стороне от своего обидчика». Храм как место «без обиды» был моей иллюзией (теперь думаю), музой, источником вдохновений много лет.
Между тем Соловьев (чего я не рассмотрел) вовсе и не нападал на церковь-храм, а имел в виду, как он часто выражался, «исторические дела». В этом случае я чувствовал и поступал, как солдат с ранцем, а он – как полководец, как стратег, соображающий местность. Точки зрения совершенно разные, могущие привести к ссоре и разногласице, когда для нее нет настоящих мотивов. Движимый идеей «мировой гармонии», Соловьев повел вопрос религиозный, церковный, но, во-первых, он повел его как вопрос о соединении, а не о примирении и, во-вторых, ожидал этого соединения от рассорившихся иерархий, сверху, аристократически. Ему мечтался единый организм христианства («одно животное перед Престолом Божиим», в «Апокалипсисе»), а не христианство как сад веры. И здесь он сделал много открытий, внес много новых точек зрения на предмет, но в общем потерпел неудачу и покончил тем же раздражением и исключением «инакомыслящих», как и Достоевский, в пределах его «гармонии». Тот видел комизм или преступление во всем нерусском (поляки, евреи, католичество, протестанты). Он начал с «молитвы пауку», а кончил подозрением или клеветою, что католичество есть поклонение сатане, «заговор сатаны против Христа» («Легенда о Великом инквизиторе»), кончившимся весьма грустным признанием, что и «нельзя обойтись без такого заговора» (Христос, целующий Инквизитора в конце «Легенды»), Соловьев также никого не примирил, и едва ли, по крайней мере, при жизни его, отношения католического и православного мира не заострились так же нервно, как в эпоху борьбы около унии, и именно благодаря его попыткам. Но одно важное последствие вытекло из трудов Соловьева: он покачнул status quo наше, преодолел квиетическую школу Хомякова. Само духовенство наше он привел к размышлению, самоанализу, к потере самоуверенности и покоя. Он открыл, – и это есть важная заслуга его, – серьезнейшие нравственные мотивы для вечного нравственного обновления церкви. Школу Хомякова и вообще старых славянофилов можно считать разбитою и уничтоженною Соловьевым, по той очень простой причине, что он указал на ту истину Запада, что он 1) думал, 2) страдал, 3) искал, а Восток просто 4) спал. Но этот сон никак нельзя назвать догматическим совершенством. Дело в том, что приписанные Западу «высокомерие и заносчивость» оказались именно в мешке, среди богатств старушки Востока, которая, как древние последователи Диогена, щеголяла дырьями своего платья. Возьмем ли мы раскол наш, возьмем ли другие недуги, слишком явные, слишком всеми сознаваемые: мы просто ничего не делаем для их устранения. Мы исторически ленивые. И эту леность возвели в догмат, чуть ли не считая ее главною чертою разделения золотого Востока от оловянного Запада. Живой, энергичный, неустанный, вечно умственно копающийся Соловьев и положил конец этой лени. В этом его великая историческая заслуга, «оправдание» (он написал книгу «Оправдание добра») 8-ми томов, его «opera omnia».

В.В.Розанов несправедливо был забыт, долгое время он оставался за гранью литературы. И дело вовсе не в том, что он мало был кому интересен, а в том, что Розанов — личность сложная и дать ему какую-либо конкретную характеристику было затруднительно. Даже на сегодняшний день мы мало знаем о нём как о личности и писателе. Наследие его обширно и включает в себя более 30 книг по философии, истории, религии, морали, литературе, культуре. Его творчество — одно из наиболее неоднозначных явлений русской культуры.

Книга Розанова «Уединённое» (1912) представляет собой собрание разрозненных эссеистических набросков, беглых умозрений, дневниковых записей, внутренних диалогов, объединённых по настроению.В "Уединенном" Розанов формулирует и свое отношение к религии. Оно напоминает отношение к христианству Леонтьева, а именно отношение к Христу как к личному Богу.До 1911 года никто не решился бы назвать его писателем. В лучшем случае – очеркистом. Но после выхода "Уединенное", его признали как творца и петербургского мистика.

В.В. Розанов (1856–1919 гг.) — виднейшая фигура эпохи расцвета российской философии «серебряного века», тонкий стилист и создатель философской теории, оригинальной до парадоксальности, — теории, оказавшей значительное влияние на умы конца XIX — начала XX в. и пережившей своеобразное «второе рождение» уже в наши дни. Проходят годы и десятилетия, однако сила и глубина розановской мысли по-прежнему неподвластны времени…«Опавшие листья» - опыт уникальный для русской философии. Розанов не излагает своего учения, выстроенного мировоззрения, он чувствует, рефлектирует и записывает свои мысли и наблюдение на клочках бумаги.

В настоящем издании представлена центральная глава из книги «Вместо себя: подход Августина» Жана-Аюка Мариона, одного из крупнейших современных французских философов. Книга «Вместо себя» с формальной точки зрения представляет собой развернутый комментарий на «Исповедь» – самый, наверное, знаменитый текст христианской традиции о том, каков путь души к Богу и к себе самой. Количество комментариев на «Исповедь» необозримо, однако текст Мариона разительным образом отличается от большинства из них. Книга, которую вы сейчас держите в руках, представляет не просто результат работы блестящего историка философии, комментатора и интерпретатора классических текстов; это еще и подражание Августину, попытка вовлечь читателя в ту же самую работу души, о которой говорится в «Исповеди».

Верно ли, что речь, обращенная к другому – рассказ о себе, исповедь, обещание и прощение, – может преобразить человека? Как и когда из безличных социальных и смысловых структур возникает субъект, способный взять на себя ответственность? Можно ли представить себе радикальную трансформацию субъекта не только перед лицом другого человека, но и перед лицом искусства или в работе философа? Книга А. В. Ямпольской «Искусство феноменологии» приглашает читателей к диалогу с мыслителями, художниками и поэтами – Деррида, Кандинским, Арендт, Шкловским, Рикером, Данте – и конечно же с Эдмундом Гуссерлем.

Созданный классиками марксизма исторический материализм представляет собой научную теорию, объясняющую развитие общества на основе базиса – способа производства материальных благ и надстройки – социальных институтов и общественного сознания, зависимых от общественного бытия. Согласно марксизму именно общественное бытие определяет сознание людей. В последние годы жизни Маркса и после его смерти Энгельс продолжал интенсивно развивать и разрабатывать материалистическое понимание истории. Он опубликовал ряд посвященных этому работ, которые вошли в настоящий сборник: «Развитие социализма от утопии к науке» «Происхождение семьи, частной собственности и государства» «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» и другие.
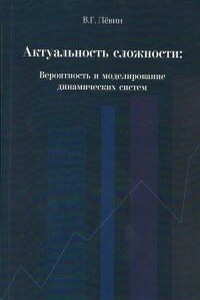
Исследуется проблема сложности в контексте разработки принципов моделирования динамических систем. Применяется авторский метод двойной рефлексии. Дается современная характеристика вероятностных и статистических систем. Определяются общеметодологические основания неодетерминизма. Раскрывается его связь с решением задач общей теории систем. Эксплицируется историко-научный контекст разработки проблемы сложности.

В своей книге Тимоти Мортон отвечает на вопрос, что мы на самом деле понимаем под «экологией» в условиях глобальной политики и экономики, участниками которой уже давно являются не только люди, но и различные нечеловеческие акторы. Достаточно ли у нас возможностей и воли, чтобы изменить представление о месте человека в мире, онтологическая однородность которого поставлена под вопрос? Междисциплинарный исследователь, сотрудничающий со знаковыми деятелями современной культуры от Бьорк до Ханса Ульриха Обриста, Мортон также принадлежит к группе важных мыслителей, работающих на пересечении объектно-ориентированной философии, экокритики, современного литературоведения, постчеловеческой этики и других течений, которые ставят под вопрос субъектно-объектные отношения в сфере мышления и формирования знаний о мире.

Данная работа является развитием и продолжением теоретических и концептуальных подходов к теме русской идеи, представленных в предыдущих работах автора. Основные положения работы опираются на наследие русской религиозной философии и философско-исторические воззрения ряда западных и отечественных мыслителей. Методологический замысел предполагает попытку инновационного анализа национальной идеи в контексте философии истории. В работе освещаются сущность, функции и типология национальных идей, система их детерминации, феномен национализма.