От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России - [165]
Владимир Соловьев
Как видно, автор в рецензии этой брошюры бурно провел ту прекрасную объединительную тенденцию, какой был предан в то время. Не забудем, что он явился в нашей богословской или религиозной литературе с объединительными тенденциями не только в отношении двух церквей, католической и православной (хотя это было главным образом), но включил сюда, хотя и отдаленно пока, еврейство и даже магометанство, которые всегда (особенно магометанство) выбрасывались христианством за борт каких бы то ни было религиозных концепций, каких бы то ни было положительных счетов. Вспомним только суровое суждение знаменитого светильника русской церкви XIX века, епископа Феофана Затворника. Он пишет в своем «Толковании на Послание к Галатам» (изд. 2, 1893 г, с. 261), что после пришествия Христа «ветхозаветный закон бысть в пагубу, и народ, держащийся его (т. е. евреи), злодей человечества». Если об евреях и Библии в семинариях и духовных академиях и говорится, и далее много, то приблизительно так же, как на уроках греческого языка говорят о Полифеме, Аяксах и Агамемноне, т. е. что «вероятно, их никогда не было, да и не нужно: но урок надо выучить»… Я хочу сказать, что говорится в каком-то величаво-красноречивом изложении, где проходят величественные «Иаковы и Ревекки», до которых какое же дело получившему недавно камилавку протоиерею и который до того рад-рад, что «владыка, кажется, ко мне благоволит». Что-то нереальное, риторическое, мечтательное Вл. Соловьев первый взял к сердцу «жидка», как генетически связанного с Ревеккою и Иаковом, в просторечии с «Ривкок» и «Яковом», – и только не дополнил воображением, что это был огромный шатер из верблюжьей шерсти, с страшно острым запахом домашних животных, где ходили, завидуя беременности друг друга, сестры-ревнивицы и, «чтобы преуспеть в очах Господа», дали в подложницы мужу своему кормилиц и нянь своих, сперва одна Баллу, а потом другая – Зелфу; и что все это не так далеко стоит от духа, идиллии и благочестия теперешних шатров Аравии и Туниса. Еще серьезнее, оригинальнее, смелее и новее было, что он, кажется, первый из европейских философов и христианских богословов, ввел в религиозную свою и своих читателей концепцию магометанства! Именно, он указал, что божественное слово, выслушанное Агарью о потомстве малолетнего сына своего, Измаила («он как дикий осел; рука его – на всех, а руки всех – на него»), суть в точности пророческое слово и покрывающее имевший через тысячелетие наступить факт магометанства. Ибо в словах этих не только очерчен характер и судьба израильтян после Магомета, но, и это особенно важно, что маленькие племена Аравии в эпоху Авраама и все время до Магомета не являли вовсе этих особенностей характера и исторической судьбы. «Таким образом, магометанство, – говорит Соловьев, – лежит в плане всемирного религиозного движения; и Магомет творил не свою волю». Этим поразительным признанием он первый перекинул мост между евангелием и кораном, христианством и мусульманством, когда прежде их разделяла не просто пропасть, но какое-то огненное море.
К сожалению, за неответом моим, по незнании его адреса, – знакомство наше не завязалось в том же 1890 году. От скольких увлечений, ошибок он мог бы меня удержать; как мог бы расширить мой политический, да и религиозный горизонт! Он знал действительность, а я ее вовсе не знал; он был всегда много-люб и много-дум: и мог расхолодить мои увлечения просто своевременным указанием на такие-то и такие-то факты, на необходимость оглянуться на иные стороны, чем какая, всегда в единственном числе, стояла передо мною! Познакомился я с ним лично только в 1895 году после жестокой и грубой полемики, какую вели мы в 1894 году. О полемике мы никогда не вспоминали – просто как о том, что «прошло». Я думаю, ни он не настаивал бы на своих определениях меня, ни я не думал ничего из того, что высказал о нем. Все было – проще, яснее и лучше, чем я представлял в нем (в личности его) со своей жестоко-национальной и жестокоортодоксальной точки зрения. Он был публицист, искренно и горячо любивший Россию (я воображал, что он – враг ее), притом работавший для нее с таким широким обхватом мысли, к какому, уже по уровню начитанности и научного образования, на котором я стоял, я ни тогда, ни потом не был способен; хотя не отрицаю, что от узости моих горизонтов происходили некоторые плюсы во мне, напр., в силе убеждения, в преданности даже ложным идеалам, которые он, вероятно, при знакомстве оценил и полюбил. По крайней мере, я все время чувствовал, и думаю – не обманываясь, постоянную его ласку к себе.
Сношения у нас завязались по поводу желания моего напечатать письма К. Н. Леонтьева ко мне: в письмах этих, высоко ценя личность и дарования Соловьева, Леонтьев, со своей ultra-консервативной точки зрения, жестоко нападал на идеи Соловьева. Кстати, его теократические мечты Леонтьев находил обаятельными и величественными, какового вкуса к ним никогда не чувствовали ни Катков, ни Ив. Аксаков. Не показывает ли это, что в скорлупу своего жестокого консерватизма Леонтьев заперся только с отчаяния, прячась, как великий эстет, от потока мещанских идей и мещанских фактов своего времени и надвигающегося будущего. И, следовательно, если бы его (Л-ва) рыцарскому сердцу было вдали показано что-нибудь и неконсервативное, даже радикальное – и вместе с тем, однако, не мещанское, не плоское, не пышное, то он рванулся бы к нему со всею силой своего – позволю сказать гения. Он (Л-в) не дожил немногих лет /to нового поворота идей, вкусов и поэзии в нашем обществе, которое охватывается в одну скобку «декадентства» и, думается, самою неожиданностью своею, своими порывами вдаль, своими религиозными влечениями и симпатиями к древнему Востоку, вероятно, охватило бы его душу как «последняя и смертельная любовь». Не знаю, обманывает ли меня вкус: но чувствуется мне, что он был «декадентом» раньше, чем появилось самое это имя; что он писал свою прозу раньше «символических» стихов, но уже – как их предварение; и создавал свою необычайную «политику» для каких-то сказочных, а не реальных царств, где будут носить египетские короны и ассирийские жезлы… Может быть, этого и не будет никогда; даже наверное не будет. В эпоху Renaissance ведь как хотели бы быть греками и римлянами. Бредили именами и вкусами Брутов и Платонов, а сотворили в действительности слабые, робкие, но неувядаемо прекрасные эпизоды жизни итальянских городков XV–XVI веков. Так и теперь: конечно – прямых целей своих мы не достигнем, но, когда мы или ближние потомки наши «будем сидеть на реках Вавилонских и плакать», над нами склонятся, побочным образам, ветви с плодами такого вкуса и аромата, каких мы не предвидели, которых не сажали и которые утешат нас в разочаровании относительно прямых целей. Все в истории бывает неожиданно, непредвиденно. И все выходит как-то лучше, красивее и мощнее, чем человек предполагал в своих кабинетных выкладках.

В.В.Розанов несправедливо был забыт, долгое время он оставался за гранью литературы. И дело вовсе не в том, что он мало был кому интересен, а в том, что Розанов — личность сложная и дать ему какую-либо конкретную характеристику было затруднительно. Даже на сегодняшний день мы мало знаем о нём как о личности и писателе. Наследие его обширно и включает в себя более 30 книг по философии, истории, религии, морали, литературе, культуре. Его творчество — одно из наиболее неоднозначных явлений русской культуры.

Книга Розанова «Уединённое» (1912) представляет собой собрание разрозненных эссеистических набросков, беглых умозрений, дневниковых записей, внутренних диалогов, объединённых по настроению.В "Уединенном" Розанов формулирует и свое отношение к религии. Оно напоминает отношение к христианству Леонтьева, а именно отношение к Христу как к личному Богу.До 1911 года никто не решился бы назвать его писателем. В лучшем случае – очеркистом. Но после выхода "Уединенное", его признали как творца и петербургского мистика.

В.В. Розанов (1856–1919 гг.) — виднейшая фигура эпохи расцвета российской философии «серебряного века», тонкий стилист и создатель философской теории, оригинальной до парадоксальности, — теории, оказавшей значительное влияние на умы конца XIX — начала XX в. и пережившей своеобразное «второе рождение» уже в наши дни. Проходят годы и десятилетия, однако сила и глубина розановской мысли по-прежнему неподвластны времени…«Опавшие листья» - опыт уникальный для русской философии. Розанов не излагает своего учения, выстроенного мировоззрения, он чувствует, рефлектирует и записывает свои мысли и наблюдение на клочках бумаги.

В настоящем издании представлена центральная глава из книги «Вместо себя: подход Августина» Жана-Аюка Мариона, одного из крупнейших современных французских философов. Книга «Вместо себя» с формальной точки зрения представляет собой развернутый комментарий на «Исповедь» – самый, наверное, знаменитый текст христианской традиции о том, каков путь души к Богу и к себе самой. Количество комментариев на «Исповедь» необозримо, однако текст Мариона разительным образом отличается от большинства из них. Книга, которую вы сейчас держите в руках, представляет не просто результат работы блестящего историка философии, комментатора и интерпретатора классических текстов; это еще и подражание Августину, попытка вовлечь читателя в ту же самую работу души, о которой говорится в «Исповеди».

Верно ли, что речь, обращенная к другому – рассказ о себе, исповедь, обещание и прощение, – может преобразить человека? Как и когда из безличных социальных и смысловых структур возникает субъект, способный взять на себя ответственность? Можно ли представить себе радикальную трансформацию субъекта не только перед лицом другого человека, но и перед лицом искусства или в работе философа? Книга А. В. Ямпольской «Искусство феноменологии» приглашает читателей к диалогу с мыслителями, художниками и поэтами – Деррида, Кандинским, Арендт, Шкловским, Рикером, Данте – и конечно же с Эдмундом Гуссерлем.

Созданный классиками марксизма исторический материализм представляет собой научную теорию, объясняющую развитие общества на основе базиса – способа производства материальных благ и надстройки – социальных институтов и общественного сознания, зависимых от общественного бытия. Согласно марксизму именно общественное бытие определяет сознание людей. В последние годы жизни Маркса и после его смерти Энгельс продолжал интенсивно развивать и разрабатывать материалистическое понимание истории. Он опубликовал ряд посвященных этому работ, которые вошли в настоящий сборник: «Развитие социализма от утопии к науке» «Происхождение семьи, частной собственности и государства» «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» и другие.
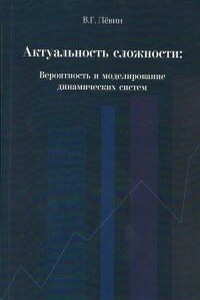
Исследуется проблема сложности в контексте разработки принципов моделирования динамических систем. Применяется авторский метод двойной рефлексии. Дается современная характеристика вероятностных и статистических систем. Определяются общеметодологические основания неодетерминизма. Раскрывается его связь с решением задач общей теории систем. Эксплицируется историко-научный контекст разработки проблемы сложности.

В своей книге Тимоти Мортон отвечает на вопрос, что мы на самом деле понимаем под «экологией» в условиях глобальной политики и экономики, участниками которой уже давно являются не только люди, но и различные нечеловеческие акторы. Достаточно ли у нас возможностей и воли, чтобы изменить представление о месте человека в мире, онтологическая однородность которого поставлена под вопрос? Междисциплинарный исследователь, сотрудничающий со знаковыми деятелями современной культуры от Бьорк до Ханса Ульриха Обриста, Мортон также принадлежит к группе важных мыслителей, работающих на пересечении объектно-ориентированной философии, экокритики, современного литературоведения, постчеловеческой этики и других течений, которые ставят под вопрос субъектно-объектные отношения в сфере мышления и формирования знаний о мире.

Данная работа является развитием и продолжением теоретических и концептуальных подходов к теме русской идеи, представленных в предыдущих работах автора. Основные положения работы опираются на наследие русской религиозной философии и философско-исторические воззрения ряда западных и отечественных мыслителей. Методологический замысел предполагает попытку инновационного анализа национальной идеи в контексте философии истории. В работе освещаются сущность, функции и типология национальных идей, система их детерминации, феномен национализма.