От Балаклавы к Инкерману - [5]
Шапки моряки перед своими командирами действительно «не ломали», вызывая вначале откровенное удивление привыкших к солдатской покорности армейских офицеров, — все больше были войной заняты.>{37} Вот только для потрясавших своим хладнокровием и распорядительностью морских начальников это было естественным, привычным состоянием.>{38} Их уверенность, непоказная строгость этикета, субординация были настолько очевидными, что вскоре армейские коллеги почувствовали превосходство флотских офицеров над собой.>{39} Самим же морякам происходившее было привычной для них работой, а что касается ее опасности, так это и было тем, что по свойству самой морской службы вызывало у них «…не уныние, а усиленную энергию».>{40}
Таких людей было трудно заставить запаниковать, потерять волю. Иностранные корреспонденты отмечали, что даже смерть адмирала Корнилова не только не подорвала дух гарнизона Севастополя, а заставила его сплотиться, удвоив силы и желание сопротивляться. Тем более, что Нахимов оказался достойным преемником.>{41}
Поразительно высокие боевые качества и умение вполне профессионально воевать в необычных для них, казалось, условиях сухопутного фронта создали уникальную ситуацию. Если до Севастополя в русском народе образ героя ассоциировался с солдатом, то теперь им стал матрос, а морская терминология, доселе малопонятная и незнакомая, стала модным трендом в российском обществе.>{42}
После войны сами моряки подчеркивали свою значимость в успехе первых недель и месяцев защиты Севастополя. Будущий адмирал Шестаков имел по этому поводу свое мнение: «Если бы не было флота, кто нашел бы в кровавой драме, разыгранной так недавно, столько страниц, утешительных для русского сердца? Скажут, что Севастополь, или другую приморскую твердыню, спасла бы и армия; но ее там сначала не было, да если бы и была, то мы положительно отвергаем такую возможность, хотя не менее каждого сочувствуем славе, заслуженной издавна нашими войсками. Чтобы укрепить город в несколько ночей, нужны ловкость и способность, которые сухопутному воину несвойственны, а в моряке развиваются ежедневными обстоятельствами жизни; нужна привычка не пугаться препятствий, которая приобретается моряком в вечной борьбе с морем, в военное и мирное время одинаково, и вдруг родиться не может. Наконец, при недостатке средств моряк, свыкающийся на корабле со всеми ремеслами понемногу, скорее найдется, нежели пехотинец, не встречающий в мирное время препятствии и недостатков».>{43}
Но не будем забывать, что при всех выдающихся «морских» победах Коломб не даром утверждал, что Крымская война едва ли может назваться морской. Так или иначе, но эпицентр текущих событий должен был вновь сместиться к сухопутному фронту, что себя ждать долго не заставило.
Русское командование, осознавая это, времени не теряло, стремясь «залатать» бреши и укрепить проблемные места, связанные в первую очередь с управлением войсками. Прошли организационные мероприятия, после которых должности, уже и без того исполняемые Меншиковым и Горчаковым, высочайше закрепили за ними окончательно. Первый стал начальником всех сухопутных и морских сил в Крыму, второй — командиром 6-го пехотного корпуса «со всеми правами».>{44}
Но не только на батареях или в море достигался успех. Важной была еще одна «неизвестная» победа Меншикова — он сумел удержать за собой коммуникации, понимая, что в то время период до 1 ноября считался удобным для движения пароконных повозок на юге России и позволял обеспечить более-менее хорошее снабжение армии в Крыму.>{45} Требовалось накопить свои запасы и одновременно вынудить противника перезимовать в Крыму, в холодных траншеях и на полуголодном пайке. К сожалению, большинство современных исследователей, перебирая события крымской осени 1854 г., с каким-то людоедским упорством перебирают сотни и тысячи погибших в сражениях, определяя, кто же «настрелял людишек» побольше. На деле победители и побежденные определялись проще. Первые диктовали свои условия, вторые им следовали. Это, конечно, исключительно мое мнение и я к нему пришел, анализируя происходившие события, но уж больно крымские дела 1854 г. напоминали московские, тоже осенние, 1812 г. Как Кутузов, сознавая, что пребывание французов в Москве ведет к гибели армии захватчиков, старался задержать Наполеона в разрушенной столице, так Меншиков в предчувствии приближающейся зимы старался заставить армию захватчиков провести ее в промерзших траншеях. Как Кутузов для достижения цели искусно распускал слухи относительно слабости и бедственного положения русской армии и будто бы общего желания скорейшего мира, так и перебежчики из русского лагеря (а их, похоже, особенно и не отлавливали) усердно распускали слухи о полной слабости русской армии, ее дезорганизации и деморализации. Почитайте воспоминания англичан и французов: там этими баснями переполнены страницы, и мы об этом уже не раз говорили в наших книгах.
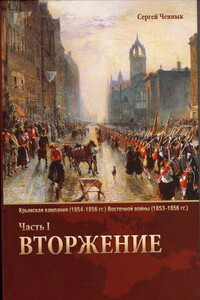
«Вторжение» — первая из серии книг, посвященных Крымской кампании (1854-1856 гг.) Восточной войны (1853-1856 гг.). Это новая работа известного крымского военного историка Сергея Ченныка, чье творчество стало широко известным в последние годы благодаря аналитическим публикациям на тему Крымской войны. Характерной чертой стиля автора является метод включения источников в самую ткань изложения событий. Это позволяет ему не только достичь исключительной выразительности изложения, но и убедительно подтвердить свои тезисы на события, о которых идет речь в книге.
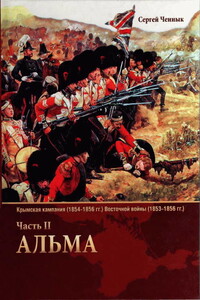
«Альма» — вторая книга серии «Военно-исторический очерк Крымской кампании (1854-1856 гг.) Восточной войны (1853-1856 гг.) известного крымского военного историка Сергея Ченныка. Ее отличие от предыдущей в том, что здесь описаны события всего лишь одного дня — 8(20) сентября 1854 г. Но даже столь ограниченный временем сюжет не снижает динамичности и не уменьшает заложенной в него интриги. Вместо нудного повествования о, казалось бы, давно изученном сражении автор показывает его как противоборство трех военных лидеров: русского главнокомандующего князя А.С.
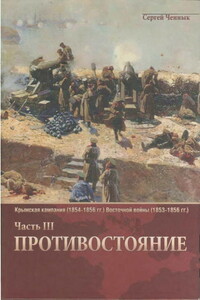
«Противостояние» — третья книга серии «Исторический очерк Крымской кампании (1854-1856 гг.) Восточной войны (1853-1856 гг.)» известного крымского военного историка Сергея Ченныка.Книга посвящена одному из самых интересных, динамичных и сложных периодов войны — началу борьбы за Севастополь. Перипетии сентябрьских и октябрьских событий скорее напоминают запутанный детектив, чем военные действия. В центре описания — многоходовая операция союзников и умелое противодействие ей со стороны русского командующего князя А.
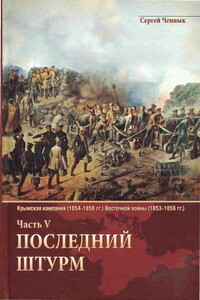
«Последний штурм» — пятая из книг, посвященных Крымской кампании (1854-1856 гг.) Восточной войны (1853-1856 гг.) и новая работа известного крымского военного историка Сергея Ченныка, чье творчество стало широко известным благодаря аналитическим публикациям на тему Крымской воины.В основу исследования легло одно из самых трагических событий последнего месяца героической защиты Севастополя во время Крымской войны. Тогда, в результате целого ряда ошибок русского командования, ставших для крепости роковыми, войска союзников сумели занять город.Но последний штурм не стал для них «легкой прогулкой», превратившись в испытание с многотысячными потерями.
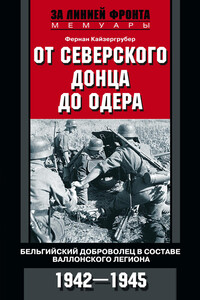
Воспоминания пехотинца добровольческой штурмовой дивизии СС «Валлония» – откровенный рассказ о ходе событий кампании на Восточном фронте 1941–1945 гг. Унтершарфюрер Кайзергрубер участвовал в боях на Кавказе, в сражениях под Корсунем-Шевченковским и Черкассами, а в ходе обороны – на реке Одер. Прямолинейно, без прикрас и желания оправдаться, автор объясняет, как и почему вступил в германскую армию, делится наблюдениями об отношении к валлонским добровольцам командования и чиновников рейха, а также о том, как их встречали в оккупированных странах.
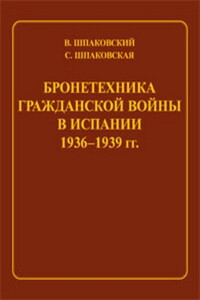
Книга в научно-популярной форме рассказывает о танках и бронеавтомобилях гражданской войны в Испании 1936–1939 гг., их использовании воюющими сторонами, а также об организации, униформе, знаках различия танковых формирований. Книга содержит много интересных фактов, раннее не публиковавшихся в нашей стране. Издание адресовано широкому кругу читателей, увлекающихся военной историей.
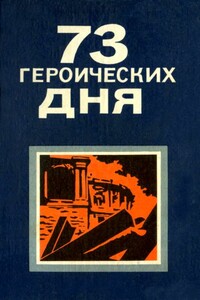
Эта книга — документальный рассказ об обороне Одессы в 1941 году, вошедшей в историю Великой Отечественной войны одной из наиболее ярких её страниц, В книге последовательно показаны события каждого из 73 дней героической эпопеи. В ней использовано много новых документов и материалов, раскрывающих коллективный подвиг защитников города-героя Одессы.
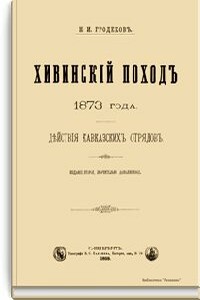
Текст воспроизведен по изданию: Хивинский поход 1873 года. Действия кавказских отрядов. СПб. ред. журнала «Русская старина» 1883© текст — Гродеков Н. И. 1883© Русская старина. 1883© сетевая версия — Thietmar. 2006© OCR — Орлов В. 2006© Корректура — netelo. 2006© дизайн — Войтехович А. 2001Мы приносим свою благодарность netelo за помощь.
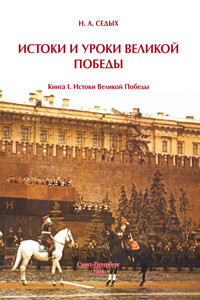
В монографии исследована проблема сохранения России как государства. Сделан анализ исторических событий, предшествующих Великой Отечественной войне, начиная с конца XVIII века и по 22 июня 1941 года. Дана оценка предельно негативной и откровенно враждебной роли США, Англии и других стран Запада, а также Японии в судьбе России на разных этапах становления и развития нашего государства. Подробно отражена спасительная миссия И. В. Сталина как великого государственника в деле защиты отечества от внешних и внутренних врагов.Книга будет интересна всем любителям истории, и тем кому не безразлична судьба России.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.