Освоение шаманизма в русской литературе конца XVIII века: А.Н. Радищев vs. Екатерина II [заметки]
1
Вероятнее всего, заметки Радищева о шаманизме после его отъезда остались и потерялись в Сибири. Ср.: [Татаринцев 1977:245].
2
Более ста лет спустя Л. Штернберг подтвердит легитимность сравнения шамана с волшебником с точки зрения позитивистской этнологии: функция, приписываемая сатане и ведьме в европейском Средневековье, соответствует функции шаманского духа-помощника. Общими являются эротические черты, а также лечебная сила, присываемая ведьмам схоластикой. В конце концов европейскому Средневековью, так же как и шаманизму, были известны формы трансвестизма «по божьему велению». Пример Штернберга — Жанна д’Арк [Штернберг 1927:172].
3
Совсем иначе шаманизм представлен в путевых заметках, относящихся к XIX веку. В них предпринимается попытка изучить ритуалы и верования сибирских народов. См.: [Castren 1853: 221,338], [Паллас 1786: 62].
4
Шаманы были редкостью, но их приезды не были чем-то совсем новым для российской столицы. Доказательство тому — указы, в которых говорилось о необходимости привозить шаманов в Петербург. Ср., например, указ от 26 января 1722 года: «…и из Якутского уезду шаманов лучших, которые пользуют от болезней…» [Памятники 1969].
5
Ср.: [Kohl 1986: 227].
6
На «нормализацию» шаманизма указывает также А. Эткинд [Эткинд 2002: 283]. Эткинд по-иному контекстуализирует позицию Радищева, видя в ней дистанцированность по отношению к русским поселенцам в Сибири. «Братство» Радищева с «туземцами» против русских крестьян, по Эткинду, странным образом предсказывает постколониальные перспективы XX века.
7
Об актуальности этой темы в крупных российских городах с 1777 года до конца века см.: [Богданов 2005]. Наряду с переводами немецких авторов, трактатами Д. Аничкова (1777), В. Золотницкого (1787) и др. необходимо назвать оды В. Майкова, Г. Державина, В. Панаева, а также публицистические издания — журнал Н. Новикова «Вечерняя заря» (1782), отводивший значительное место теме бессмертия.
8
В трактате употребляются следующие дериваты: существительное «чувствование», означающее «чувствовать, способность воспринимать ч.-л.», «чувствительность», означающее в контексте сентиментализма, к которому Радищев тоже принадлежит, «восприимчивость, впечатлительность, сентиментальность». Но в трактате Радищев употребляет это слово также в значении «способность чувствовать, воспринимать ч.-л.». К. Богданов [Богданов 2005] указывает на абсолютную семантическую неделимость между словом «чувство» и образуемыми от него дериватами в XVIII в., обозначающими физиологические способности или художественно-эстетические установки. В определенном смысле это корреспондирует с нежеланием видеть принципиальное различие между литературно-поэтическим и естественно-медицинским дискурсами. Кроме этого, омонимия или, лучше сказать, полисемантика этого слова проблематизирована не только в русском языке, но и, например, во французском. До конца XVIII века похожая ситуация была со словом «sentiment». Р. Декарт и Ж.-Ж. Руссо употребляют его не только в значении «чувство», но и в значении «восприятие». Ср. «чувство» (нем. «Gefühl») в энциклопедии Миттелыптрасса (1995. Т. 1).
9
Ср. также концептуализацию «Воображение в связи с визуальным чувством», как своего рода внутренний потенциал последнего, в английской эстетике XVIII века; см. например: [Lachmann 2002: 68].
10
В Илимске под рукой были у Радищева «De l’esprit» Гельвеция (1758) и другие труды, на которые он ссылается в своем трактате: «Disquisitions relating to matter and Spirit» Пристли (1777) или «Идеи о философии истории человечества» И. Г. Гердера (1784–1791) — Ср.: [Радищев 1941:372].
11
Радищев не был знаком с работами позднего И. Канта. Вероятнее всего, он знал некоторые тексты докритического периода. Ср.: [Лапшин 1907: XVIII].
12
Эта интерпретация требует комментария в том смысле, что юродивые («Narr in Christo») как в России, так и в Западной Европе XVIII века ни в коем случае не считались сумасшедшими. Юродивыми называли людей, по-особому выражавших и переживавших свою религиозность. Радищев использует это понятие в определенном смысле метафорически.
13
Радищев приводит в этом месте два чрезвычайно интересных примера страданий, вызванных любовью. Первый пример: муж заболевает в тот момент, когда его жена в муках рожает ребенка, и выздоравливает сразу после родов. Второй пример: античная легенда о Страконикосе, которую можно назвать «анти-Эдипо-вой». Это история о юноше, страдающем от любви к своей матери. Он близок к смерти. Отец, узнав о несчастьи сына, вылечивает его тем, что уступает ему свою жену [Радищев 1907:114].
14
Смерть в понимании Радищева — это «естественная перемена человеческого состояния» [Радищев 1907: 83].
15
«Другая нами неощущаемая… неведомая организация». Далее Радищев говорит уже о «других организациях». Это означает, что речь идет не просто о «другом мире».
16
Предположение о том, что это мнение самого Радищева, подтверждается высказыванием Лейбница, которое Радищев избрал эпиграфом к трактату: «Настоящее полно будущим» [Радищев 1907:1].
17
Связь с современным (масонским) спиритуализмом (например, месмеризмом) кажется сомнительной, так как Радищев во многих местах трактата высказывался против странствий души и однозначно вписывает себя в ряды тех, кто верит в чудо. Подробно об этом в «Книге Четвертой»: «…известно, что нужно было Пифагору о себе сказать, что он был прежде Евфорбий, для того, что он утверждал переселенение душ… ибо естли мог делать чудеса всеми зримыя, то верили ему, что он облечен уже в новый образ.
Но ныне успехи рассудка мыслить заставляют, что всякое чудо есть осмеяние всевышнего могущества, и что всякий чудодеятель есть богохульник. Вот для сего Шведенборг почитается вралем, а Сен Жермен, утверждавший бессмертность в теле своем есть обманщик» [Радищев 1907:124].
18
Эта перспектива просвечивается также у В. Штеллера, в его «Beschreibung von dem Lande Kamtschatka» (1774). Он называет шаманизм у ительменов «species divinatio-nis simplicissimus» [Steller 1996:194].
K. Коль — сторонник марксизма, считавший, что с помощью климатической теории «становятся заметны основопологающие противоречия антропологических идей философии просвящения» [Kohl 1986:117]. По его мнению, климатическая теория призывает к осуществлению гражданских прав, свободы и равенства среди людей. Но она должна пренебрегать теми же ценностями относительно колониального разграбления неевропейских народов, так как ценности эти способствуют подъему буржуазии. «Если рассматривать ее как попытку материалистически объяснить различия между народами, с одной стороны, то, с другой стороны, ее нужно толковать как теоретическое обоснование превосходства Европы над всеми другими народами мира» [Kohl 1986:117].
19
Во французском языке слово «jongleur» имеет долгую, доходящую до Бернара де Клерво традицию. Он называл этим словом мистиков. (Я благодарю Р. Лахманн за эти сведения.)
20
Исторический конец этому различию между истинным и ненастоящим преклонением духам положил Й. Х. Юнг-Штиллинг. По образованию врач, он критиковал единство механистической картины мира, препятствующей, по его мнению, восприятию «невидимого спиритуального мира». Исходя из «теократической системы независимости» [Flaherty 1992:111] и из психологического подхода, он верил в существование спиритуального мира и настаивал на том, что общение «с духами» предполагает особенную «чувствительность нервной системы», а также «активное воображение» [Flaherty 1992:111]. Как и Лафито, Юнг-Штиллинг приходит к выводу, что существуют «настоящие» и «фальшивые» верования в духов. «Фальшивые» видения имеют патологические причины: истерию и ипохондрию. «Настоящие» же происходят благодаря «действительному появлению духов» (ср.: [Flaherty 1992:112]).
21
Здесь напрашивается вопрос о том, насколько позиция Лафито связана с его положением иезуитского миссионера и можно ли связать его убеждения с воззрениями маргинализированного, «вынесенного за культурные рамки» Радищева?
22
Ср.: [Dahlmann 1997: 27]. Среди немецких исследователей Сибири только Георги применял подобный подход к изучению шаманизма. Он понимал его как одну из религий Старого Мира, из которой возникли ламаизм и брахманизм [Дальманн 1997:42].

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».
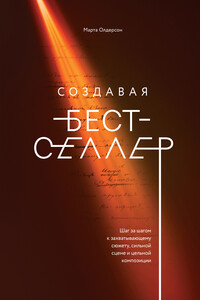
Что отличает обычную историю от бестселлера? Автор этой книги и курсов для писателей Марта Олдерсон нашла инструменты для настройки художественных произведений. Именно им посвящена эта книга. Используя их, вы сможете создать запоминающуюся историю.
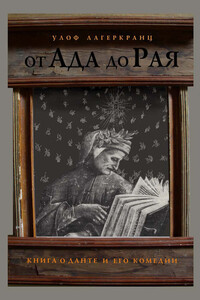
Герой эссе шведского писателя Улофа Лагеркранца «От Ада до Рая» – выдающийся итальянский поэт Данте Алигьери (1265–1321). Любовь к Данте – человеку и поэту – основная нить вдохновенного повествования о нем. Книга адресована широкому кругу читателей.