Остров Колгуев - [30]
Доктор съездил на боте за лесом и, выписав на фактории старые бочки, возглавил бригаду плотников. Так была проложена на острове первая улица-проспект, а попросту — деревянная кладка над топкой, раскисшей тундрой.
Доктор добился, чтобы все женщины, вместо того чтобы рожать в тундре в отдельно поставленном чуме, приезжали в больницу. Кто знает, чего ему это стоило.
В торосах рождалось солнце.
Отразилось в глазах, в стеклах домов.
— Ну, вот и зима кончилась, — поздравляли друг друга люди.
Снег скрипел и визжал под подошвами, под полозьями — люди расходились и разъезжались по своим делам.
Лежу за печкой, растянувшись на нарах, высоко над заиндевевшим полом. Мне хорошо — как только может быть хорошо человеку, шедшему в пургу берегом Карского моря почти восемнадцать часов, не садясь и не останавливаясь.
Впрочем, остановки были…
Старик Топчик, останавливаясь, гладит заснеженные собачьи лбы, стряхивает с собачьих бровей куски снега, говорит что-то ободряющее — и дальше; остановились — сняли лыжи, потому что усиливающаяся поземка совсем скрывает поверхность снега и заледеневшие заструги, оставшиеся после прошлой пурги, — об них можно сломать лыжи.
…Надо мной — черные балки потолка, на двух растянутых над печкой веревочках сушатся щепки для растопки, на такой же черной, как потолок, стене (изба когда-то топилась по-черному) висят ружья; протянув руки, я не могу потрогать отполированное прохладное дерево и поблескивающий металл.
Кожа у меня на лице стягивается все больше — от этого даже выворачиваются губы, а со щек течет что-то мутно-коричневое; от жара печи больно.
Топчик поглядел на меня, покачал головой: а-ай… Вышел в сени, вернулся с кусочком нерпичьего жира.
— Попробуй приложи…
У него на скулах тоже темные пятна.
Едва светает — старик уже топчется по избе: прикрутил лампу (ее не гасят — кончились спички), затопил печь, принес из сеней бруски снега; когда красноватые лучи косыми полосами подползают к двери, мы уже пьем чай.
В конце завтрака на чистых некрашеных досках стола — кружки с крепким чаем, темные сухари, котелок с растопленным нерпичьим жиром. Немногословный разговор: кто куда сегодня.
Первым, взяв ружье, вниз к морю скользит Нядма.
Старик, натянув поверх малицы черный суконный совик, с ружьем и лопаточкой для утаптывания снега у капканов, не нагибаясь, ловким движением ноги надевает лыжи. Идет вверх, к сопкам, не быстро, размеренно, так он может идти суток трое. Володя идет со стариком.
Тобси, взяв ружье и надев лыжи, как всегда бегом, отправляется тоже в тундру, но к востоку.
Я остаюсь в избушке. Рассматриваю желтые, как выскобленный стол, полы, блестящие ковши и алюминиевые кружки, развешанные на стене у печки.
Вчера вечером я спросила у старика:
— У вас все новое?..
— Так мы вчера в магазин ходили…
А Нядма выдал:
— Это Тобси вчера целый день все скоблил — гостей ведь ждал…
Через некоторое время до меня доходит, что гости — это мы.
Как в сказке, к приходу охотников убираю избушку. Вытряхиваю на снегу шкуры-постели, складываю в печку дрова, наполняю ведра и чайники снегом.
Вскипятив чайник и перелив кипяток в ведерко, иду писать этюд.
Собаки вышли из снежного своего дома и лежат на солнечном снегу.
Когда мужчины уезжают — кто к стаду, кто на охоту, — они могут не вернуться и через несколько суток. К их шапкам, к поясу с большой круглой, как солнце, медной пряжкой всегда привешены звякающие металлические украшения, оттягивающие и прижимающие шкуры одежд, чтобы их не подымал ветер.
Зашевелился ребенок — звякнули колокольчики, щелкнули копытца, пришитые к рукавам и капюшону, тонким звуком ответила связка пистонов; потянулась к нему женщина — звякнули на длинных красных шнурках медные треугольнички и солнца; сталкиваясь в ритме работы, звенят все время, пока она выделывает шкуру.
На моей шапке тоже пришиты тянущие ее книзу медяшки, на двух из них, круглых, — летящие гуси, ябто. Тишина чуть расступается вокруг избушки.
Скрип. Лыж или полозьев.
С сопки спускается старик, за ним Тобси.
Старик снимает лыжи, ставит их к углу сруба.
— Чай давать?
— Пусть девка работает еще…
И мне приходится идти за новым ведерком кипятка.
Вечерняя трапеза проходит так же неспешно и молчаливо, и только в конце ее все по очереди рассказывают о том, что видели в тундре, очень подробно: о следах ушканов, о следах возле капканов, об ореоле солнца, о направлении ветра — может, завтра вскроется море…
Сидят за простым некрашеным столом трое мужчин разного возраста, с одинаково обветренными лицами, говорят ровными негромкими голосами. И все это — их трапеза, их речи, их занятия вместе со звездами наступившей уже ночи, со снегами, зелеными от сияния, с притаившейся за ставнями тишиной — все вместе так торжественно и так просто, как труд людей, живущих на этой земле, как сама жизнь.
Весна все не шла, не шла — и вдруг прорвалась к морю.
Ошалевшие от птичьего лета и птичьих криков, от запаха ветра, ослепленные сиянием тающих снегов, люди, лишившись сна, бродят по поселку, уходят в тундру; присев на сырую вытаявшую кочку, касаются руками жестких, прошлогодних листьев морошки. Из труб, из чумов — невиданная картина — в разное время выползает дым.

В этой повести действуют реальные герои, которые по велению собственного сердца, не ожидая повестки военкомата, добровольно пошли на фронт. Автор книги Иван Захарович Акимов — бывший комиссар батальона 38-го отдельного комсомольского инженерного полка. Многих бойцов и командиров он хорошо знал, сражался вместе с ними против фашистских оккупантов. Его повесть «Перешагнувшие через юность» — правдивая страница героической летописи комсомола.

Эдит Уортон (Edith Wharton, 1862–1937) по рождению и по воспитанию была связана тесными узами с «именитой» нью-йоркской буржуазией. Это не помешало писательнице подвергнуть проницательной критике претензии американской имущей верхушки на моральное и эстетическое господство в жизни страны. Сравнительно поздно начав литературную деятельность, Эдит Уортон успела своими романами и повестями внести значительный вклад в критико-реалистическую американскую прозу первой трети 20-го века. Скончалась во Франции, где провела последние годы жизни.«Слишком ранний рассвет» («False Dawn») был напечатан в сборнике «Старый Нью-Йорк» (1924)

Филимон Сергеев родился в 1944 году в деревне Химонево Шенкурского района Архангельской области. После окончания школы рабочей молодежи работал в колхозе и на ремонтно-механическом заводе в Архангельске.Публиковался в газетах «Правда Севера», «Советская Онега», «Северный комсомолец» и журналах «Литературная учеба», «Сельская новь».«Федина беда» — первая книга автора.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
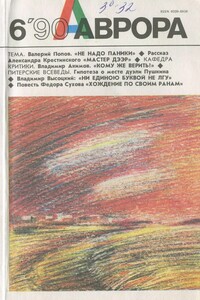
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Идея повести «Резиновое солнышко, пластмассовые тучки» возникла после массового расстрела учеников американской школы «Колумбина» в 1999 г. История трех подростков, которые объединяются, чтобы устроить кровавую баню в своей школе стала первой в Украине книгой о школьном насилии. По словам автора, «Резиновое солнышко, пластмассовые тучки» — не высокая литература с витиеватыми пассажами, а жесть как она есть, история о том, как город есть людей, хроника ада за углом свежевыкрашенного фасада. «Это четкая инструкция на тот черный день, когда вам придется придумать себе войну, погибнуть в ней и сгнить в братской могиле вместе со своим батальоном неудачников», — говорит Войницкий.