Осторожно, треножник! - [9]
Все же иногда действовать необходимо:
«Эти разговоры о защите ислама – что чудовищно само по себе – выводят меня из себя. Я требую во имя человечества, чтобы растолкли Черный камень, чтобы пыль от него пустили по ветру, чтобы разрушили Мекку и осквернили могилу Магомета. Это был бы способ поколебать фанатизм» (2: 206).
Но разве можно растолочь символ и пустить по ветру метафору?..
Литература
Флобер Г. 1984. О литературе, искусстве, писательском труде: Письма; Статьи. В 2-х т. / Сост. С. Лейбович; Пер. с фр. под ред. А. Андрес; Прим. С. Кратовой и В. Мильчиной. М.: Художественная литература.
О пользе вкуса
[6]
Неправо о вещах те думают, Мельчук, Кто чтут поэтику последней из наук.
Несмотря на благоговение, которым Пушкин был с самого начала окружен в русской критике и читательском восприятии, его «Станционному смотрителю» (1831) пришлось дожидаться своего по-настоящему проницательного читателя без малого сто лет. Лишь в 1919 году (т. е. в плане русской истории с роковым опозданием на два года) нашелся исследователь, сумевший разглядеть и, подобно библейскому Даниилу, прочесть надпись, спрятанную на самом видном месте сюжета на стене почтовой станции. В своем лаконичном разборе пушкинской новеллы М. О. Гершензон (Гершензон 1919) выявил подлинную суть печальной истории «маленького человека» Семена Вырина.
Он показал, что, распропагандированный украшавшими станцию немецкими картинками о злоключениях блудного сына из евангельской притчи станционный смотритель неверно истолковал поведение Дуни как сюжет о блудной дочери – «заблудшей овечке». За свою эстетическую слепоту он понес наказание, исполненное жестокой иронии. Вырин жил недолго и несчастливо и умер от пьянства, явив жалкий образ поистине блудного отца.
Mutatis mutandis, сходная участь постигла и всю его страну, население которой было в большинстве неграмотным, а культурная элита отличалась странными читательскими наклонностями.
Сенсационное сопряжение трагедии России с изысканными текстуальными играми Пушкина (будь то действительными или приписываемыми ему его талмудическими комментаторами) может показаться натянутым. Однако правильность чтения и борьба за власть над ним – вопрос отнюдь не праздный. Характерно, что именно Пушкин был первым приговорен к сбрасыванию с парохода современности (около 1917 года), а в предыдущую революционную эпоху именно его поэзия была объявлена уступающей в ценности сапогам. В 1860-е годы Пушкин как символ искусства для искусства подвергся нападкам со стороны радикальной интеллигенции, выступавшей за новую, утилитарно-дидактическую эстетику. Отказ от пушкинского уровня требований к обработке текста расчистил путь к успеху роману Чернышевского «Что делать?» (1863; далее ЧД), – успеху, историческое значение которого трудно переоценить. [7]
Роман по праву знаменит своей «плохописью». Он столь откровенно и безобразно антихудожествен (да и сам его повествователь непрерывно настаивает на ненужности хорошего стиля), что царские цензоры сознательно пропустили его в печать, рассчитывая повредить таким образом репутации и политической линии автора. Вопреки их ожиданиям, однако, книга стала предметом культового поклонения, опередила по популярности сочинения Тургенева и Толстого и стала расти в цене не в последнюю очередь благодаря ореолу мученичества, которым было овеяно имя ссыльного автора запрещенного таки, наконец, романа. По ироническому замечанию Набокова, «гениальный русский читатель понял то доброе, что тщетно хотел выразить бездарный беллетрист». Герцен нашел, что «гнусно написано», но «с другой стороны, много хорошего, здорового». Эта двойственная оценка, построенная по модной в 1860-е годы схеме «плохой поэт, но хороший гражданин», была впоследствии подхвачена такими великими революционерами, как Кропоткин и Плеханов.
Вскоре, однако, традиции высокомерно-снисходительного отношения к эстетическим достоинствам романа был положен конец – и никем иным, как Лениным. В 1904 году в ответ на пренебрежительный отзыв о ЧД одного молодого большевика Ленин раздраженно заметил:
«Я заявляю: недопустимо называть “Что делать?” примитивным и бездарным. Под его влиянием сотни людей делались революционерами. Могло ли это быть, если бы Чернышевский писал бездарно и примитивно?.. Он меня всего глубоко перепахал » ( Валентинов 1953: 103).
То ли «идеологический ценный, хотя эстетически слабый», то ли «идеологически ценный, и, следовательно, эстетически прекрасный», [8] роман в любом случае не был просто очередным политическим трактатом без художественных претензий. В конце концов, его недаром написал автор диссертации об «Эстетических отношениях искусства к действительности». Программное неразличение реальности и вымысла, fact and fiction, выраженное в знаменитой формуле «Прекрасное есть жизнь», составляет самую суть écriture Чернышевского (Набоков эффектно обыгрывает в этой связи его близорукость). Но оно же лежит в основе всего феномена «советизма».
Характерен в этом смысле известный советский анекдот (пародирующий Маяковского): «Мы говорим Ленин – подразумеваем партия, мы говорим партия – подразумеваем Ленин.
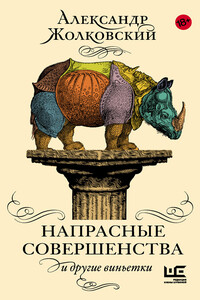
Знаменитый российско-американский филолог Александр Жолковский в книге “Напрасные совершенства” разбирает свою жизнь – с помощью тех же приемов, которые раньше применял к анализу чужих сочинений. Та же беспощадная доброта, самолюбование и самоедство, блеск и риск. Борис Пастернак, Эрнест Хемингуэй, Дмитрий Шостакович, Лев Гумилев, Александр Кушнер, Сергей Гандлевский, Михаил Гаспаров, Юрий Щеглов и многие другие – собеседники автора и герои его воспоминаний, восторженных, циничных и всегда безупречно изложенных.

Книга невымышленной прозы известного филолога, профессора Университета Южной Калифорнии Александра Жолковского, живущего в Санта-Монике и регулярно бывающего в России, состоит из множества мемуарных мини-новелл (и нескольких эссе) об эпизодах, относящихся к разным полосам его жизни, — о детстве в эвакуации, школьных годах и учебе в МГУ на заре оттепели, о семиотическом и диссидентском энтузиазме 60-х−70-х годов, об эмигрантском опыте 80-х и постсоветских контактах последних полутора десятилетий. Не щадя себя и других, автор с юмором, иногда едким, рассказывает о великих современниках, видных коллегах и рядовых знакомых, о красноречивых мелочах частной, профессиональной и общественной жизни и о врезавшихся в память словесных перлах.Книга, в изящной и непринужденной форме набрасывающая портрет уходящей эпохи, обращена к широкому кругу образованных читателей с гуманитарными интересами.

Книга прозы «НРЗБ» известного филолога, профессора Университета Южной Калифорнии Александра Жолковского, живущего в Санта-Монике и регулярно бывающего в России, состоит из вымышленных рассказов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
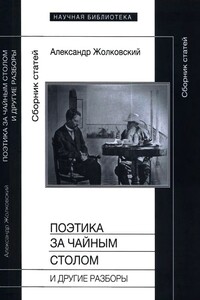
Книга представляет собой сборник работ известного российско-американского филолога Александра Жолковского — в основном новейших, с добавлением некоторых давно не перепечатывавшихся. Четыре десятка статей разбиты на пять разделов, посвященных стихам Пастернака; русской поэзии XIX–XX веков (Пушкин, Прутков, Ходасевич, Хармс, Ахматова, Кушнер, Бородицкая); русской и отчасти зарубежной прозе (Достоевский, Толстой, Стендаль, Мопассан, Готорн, Э. По, С. Цвейг, Зощенко, Евг. Гинзбург, Искандер, Аксенов); характерным литературным топосам (мотиву сна в дистопических романах, мотиву каталогов — от Гомера и Библии до советской и постсоветской поэзии и прозы, мотиву тщетности усилий и ряду других); разного рода малым формам (предсмертным словам Чехова, современным анекдотам, рекламному постеру, архитектурному дизайну)

Книга невымышленной прозы известного филолога, профессора Университета Южной Калифорнии Александра Жолковского, родившегося в 1937 году в Москве, живущего в Санта-Монике и регулярно бывающего в России, состоит из полутора сотен мемуарных мини-новелл о встречах с замечательными в том или ином отношении людьми и явлениями культуры. Сочетание отстраненно-иронического взгляда на пережитое с добросовестным отчетом о собственном в нем участии и обостренным вниманием к словесной стороне событий делают эту книгу уникальным явлением современной интеллектуальной прозы.

Наталья Алексеевна Решетовская — первая жена Нобелевского лауреата А. И. Солженицына, член Союза писателей России, автор пяти мемуарных книг. Шестая книга писательницы также связана с именем человека, для которого она всю свою жизнь была и самым страстным защитником, и самым непримиримым оппонентом. Но, увы, книге с подзаголовком «Моя прижизненная реабилитация» суждено было предстать перед читателями лишь после смерти ее автора… Книга раскрывает мало кому известные до сих пор факты взаимоотношений автора с Агентством печати «Новости», с выходом в издательстве АПН (1975 г.) ее первой книги и ее шествием по многим зарубежным странам.

«Вечный изгнанник», «самый знаменитый тунеядец», «поэт без пьедестала» — за 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот — появление такой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман — автобиографичен.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».