Оспожинки - [2]
Бывало. Кому рассказывать – не мне.
«Один раз за весь век, – при случае вспоминает, – отец ваш ещё живой был… ты тогда служил, однако… проспала до полсемова. На часы гляжу – глазам своим не верю. С койки-то меня смахнул кто будто, сдёрнул – как ошпаренная, соскочила. Небывалый же идь случай… Отецто, ладно, тот зимой и до семи, дел никаких нет еслив, в лес за дровами да за сеном-то когда не ехать, проваляться мог, не беспокойный. Сосед наш, Владимир Фёдорыч, увидел меня после в магазине… он же у них за хлебом в магазин ходил всё, а не Ася, это уж нашего… за паперёсами бы даже не отправил… как и в больницу… подошёл ко мне и говорит: Ну, Василиса Маркеловна, – он почему-то величал меня Маркеловной всегда, а не Макеевной, – хотел уж было к вам бежать, не случилось ли чё, испугался. Дым не вьётся из трубы, света в окнах, вижу, нет, мол, ну а времени-то уже много… Смеюсь в ответ ему: да, дескать, так вот нынче получилось… Лень сморила».
Скажет так, добавит после обязательно: чё, мол, за сон напал на нас тогда такой беспамятный, глубокий, чё, мол, за напасть?
Отец, присутствуй он при этом разговоре, дал бы такое заключение:
«Напасть какая-то!.. Придумала. Да проспала всего, тебе и напасть. Просто не скажут, всё с запуками».
Будто и голос его слышу. Точку поставит будто – хмыкнет.
Отец. Теперь отец, при жизни звал его я папкой. Как-то бумажно. Теперь вот ёмко.
Не хватает.
Смеюсь, говорит. Только слово. Не могу вообразить её, маму, смеющейся, лишь – улыбающейся. Да и того же Владимира Фёдоровича Тыжного, соседа нашего, из-за тика, нажитого на каторжных работах, прозванного Дергачом, когда-то есаула Елисейского казачьего полка, отбывшего в своё время за это воинское звание пятнадцать лет в одном из заполярных лагерей, ныне покойного, не представить мне хохочущим. Раньше много было здесь таких – степенных. Из коренных, что называется, не из залётных.
Сначала коллективизация – ни малого, ни старого не разбирая, целыми улицами переметнула из нашего Сретенска в тундру, потом война великая – та мужиков изрядно поубавила – из трёхсот домой вернулись только семьдесят, из них немалое число увечными, не говоря уж про точивший их синдром послевоенный, о котором тогда и знать не знали, ведать не ведали, и, выходит, что его, синдрома, никакого у них не было.
Теперь остатки вымирают, уступая место мерзости запустения. Здесь только, по всей России ли так? Когда нарастёт доброе? И нарастёт ли? Больно. Глушу грех отчаяния, как головную боль – таблеткой анальгина, повторяя за мамой: «На всё воля Божья, и на это», – сам же себе отцовским и перечу: Бог-то Бог, да сам, мол, будь не плох. А что изменишь?
В себе только – меру. Это других кроить да перекраивать – дело простое, себя – непросто.
Отца уже нет. Мать дряхлеет. Малая родина кончается. В Большой что творится, пока не понять. Печаль кости проела. И что вдруг, раз неизбежно?
Я ведь могу так рассуждать?.. Могу, конечно. Рассуждаю.
Ушла от нас безвозвратно русская крестьянская культура скромного, достойного, аристократического пребывания на этом свете. То же самое, что христианская. Как там у Варсонофия и Иоанна: «Пусть те, которые дают себе свободу в смехе, знают, что они впадают от сего в блуд». Или у Григория Паламы: «Неприличны христианам ни шутовство, ни смешливость, как ослабляющие напряжённость души…»
Из другой жизни. Не из нашей.
Или у аввы ли Исайи: «Не открывай уст своих для смеха отнюдь, потому что это есть безстрашие».
Отыщись смельчак или простак и скажи об этом сегодня публично, со всех экранов и из всех динамиков осмеют его дружно, найдут и доводы для этого.
У Александра Ельчанинова ли:
«Смех (не улыбка) духовно обессиливает человека».
Интересно.
И у Василия Великого: «Сидя, не клади одной ноги на другую: это знак невнимательности и души рассеянной…».
У нас в Сретенске так, по-американски, и теперь ещё не сидят. И громко, в захохотки, не смеются. И горлопаны есть, грязноязыкие, конечно, но эти редкость, исключение. «Такой уж корень, – говорят про них, – неисправимый». Или – «безстрашный». Такое семя.
И у Макария Великого как:
«Христианство есть пища и питие. И чем больше кто вкусит его, тем более возбуждается сладостью ум, делаясь неудержимым и ненасытимым, более и более требующим и вкушающим».
Скажи и это…
Говорю вот. Хоть и с оглядкой – малодушный. Окна на веранде не по-сибирски большие, во всю стену, или, как часто поминает осудительно их мама, обо всём свете, разделённые лишь по углу брусом-стояком и обращённые: одно к юго-востоку, другое к юго-западу, – как тёмно-синий бархат, ночь за ними, ельник чернеет – различаю. У мамы – утро.
«О всесвятый Николае…»
Молится.
Всех, наверное, перечислила, живых и усопших. От веку. Никого не пропустила. И ничего, быть может, даже камни – о тех печётся: молча, без дела столько полежи-ка – и изведёшься от тоски и скуки. Об облаках – о тех, быть может, тоже: носит их ветром, неприкаянных, у них хозяин властный – ветер.
Тугая стала на ухо – слова молитвы произносит громким шёпотом – под одеяло укрываюсь с головой, чтобы невольно не подслушать.
«…Честь, хвалу и прославление через Иисуса Христа Господа нашего. Аминь».
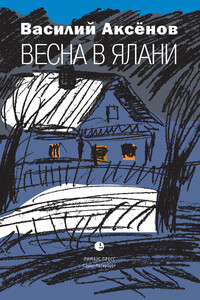
Герой нового романа Василия Ивановича Аксёнова, как и герои предыдущих его романов, живёт в далёком сибирском селе Ялань. Он неказист и косноязычен, хотя его внутренняя речь выдаёт в нём природного философа. «Думает Коля складнее и быстрее, чем ходит и говорит…» Именно через эту «складность» и разворачиваются перед читателем пространство, время, таёжные пейзажи, судьбы других персонажей и в итоге – связь всего со всем. Потому что книга эта прежде всего о том, что человек невероятен – за одну секунду с ним происходит бездна превращений.
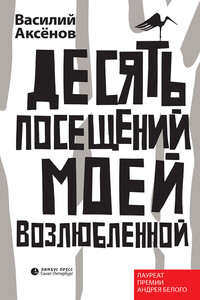
Василий Иванович Аксёнов обладает удивительным писательским даром: он заставляет настолько сопереживать написанному, что читатель, закрывая книгу, не сразу возвращается в реальность – ему приходится делать усилие, чтобы вынырнуть из зеленого таежного моря, где разворачивается действие романа, и заново ощутить ход времени. Эта книга без пафоса и назиданий заставляет вспомнить о самых простых и вместе с тем самых глубоких вещах, о том, что родина и родители – слова одного корня, а любовь – главное содержание жизни, и она никогда не кончается.Роман «Десять посещений моей возлюбленной» стал лауреатом премии журнала «Москва» за лучшую публикацию года, а в театре им.
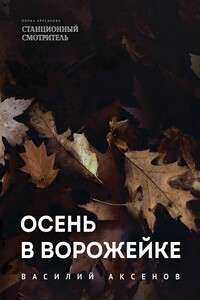
Это история о том, что человек невероятен. С ним за секунду бытия происходит бездна превращений. Каждая клеточка, входящая в состав человека, живая. Среди русских писателей имя В. Аксёнова стоит особняком. Сюжеты его прозы, казалось бы, напрямую соотносятся с деревенской тематикой, герои его произведений — «простые люди» из глубинки, — но он не «писатель-деревенщик». Проза Аксёнова сродни литературе «потока сознания», двигает героем во всех его подчас весьма драматичных перипетиях — искра Божия.
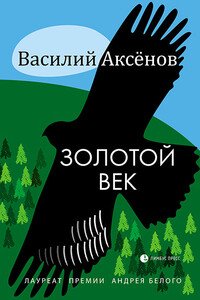
Сборник рассказов и повестей «Золотой век» возвращает читателя в мир далёкой сибирской Ялани, уже знакомой ему по романам Василия Ивановича Аксёнова «Десять посещений моей возлюбленной», «Весна в Ялани», «Оспожинки», «Была бы дочь Анастасия» и другим. Этот сборник по сути – тоже роман, связанный местом действия и переходящими из рассказа в рассказ героями, роман о незабываемой поре детства, в которую всякому хочется если и не возвратиться, то хоть на минутку заглянуть.
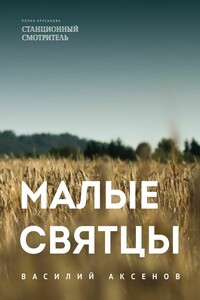
О чем эта книга? О проходящем и исчезающем времени, на которое нанизаны жизнь и смерть, радости и тревоги будней, постижение героем окружающего мира и переполняющее его переживание полноты бытия. Эта книга без пафоса и назиданий заставляет вспомнить о самых простых и вместе с тем самых глубоких вещах, о том, что родина и родители — слова одного корня, а вера и любовь — главное содержание жизни, и они никогда не кончаются.
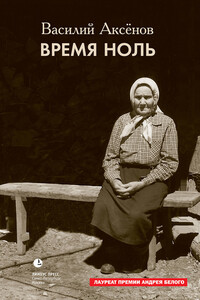
Главный герой возвращается со своей малой родины в Петербург, останавливаясь в одном из сибирских городов для встречи с друзьями. В немногословности сюжета – глубина повествования, в диалогах – характеры, в историях – жизнь и смерть. Проза В. Аксёнова, словно Вселенная, затягивающая своей непостигаемой бездной, погружает в тайны души человеческой. Время здесь, образуя многомерность художественного пространства, сгущается, уплотняется и будто останавливается в вечности, линиями прошлого, настоящего и будущего образуя точку схода. Сохранены особенности орфографии и пунктуации автора.
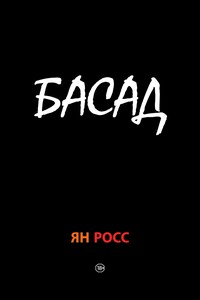
Главный герой — начинающий писатель, угодив в аспирантуру, окунается в сатирически-абсурдную атмосферу современной университетской лаборатории. Роман поднимает актуальную тему имитации науки, обнажает неприглядную правду о жизни молодых ученых и крушении их высоких стремлений. Они вынуждены либо приспосабливаться, либо бороться с тоталитарной системой, меняющей на ходу правила игры. Их мятеж заведомо обречен. Однако эта битва — лишь тень вечного Армагеддона, в котором добро не может не победить.
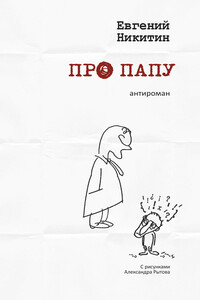
Своими предшественниками Евгений Никитин считает Довлатова, Чапека, Аверченко. По его словам, он не претендует на великую прозу, а хочет радовать людей. «Русский Гулливер» обозначил его текст как «антироман», поскольку, на наш взгляд, общность интонации, героев, последовательная смена экспозиций, ироничских и трагических сцен, превращает книгу из сборника рассказов в нечто большее. Книга читается легко, но заставляет читателя улыбнуться и задуматься, что по нынешним временам уже немало. Книга оформлена рисунками московского поэта и художника Александра Рытова. В книге присутствует нецензурная брань!

Знаете ли вы, как звучат мелодии бакинского двора? А где находится край света? Верите ли в Деда Мороза? Не пытались ли войти дважды в одну реку? Ну, признайтесь же: писали письма кумирам? Если это и многое другое вам интересно, книга современной писательницы Ольги Меклер не оставит вас равнодушными. Автор более двадцати лет живет в Израиле, но попрежнему считает, что выразительнее, чем русский язык, человечество ничего так и не создало, поэтому пишет исключительно на нем. Галерея образов и ситуаций, с которыми читателю предстоит познакомиться, создана на основе реальных жизненных историй, поэтому вы будете искренне смеяться и грустить вместе с героями, наверняка узнаете в ком-то из них своих знакомых, а отложив книгу, задумаетесь о жизненных ценностях, душевных качествах, об ответственности за свои поступки.

Александр Телищев-Ферье – молодой французский археолог – посвящает свою жизнь поиску древнего шумерского города Меде, разрушенного наводнением примерно в IV тысячелетии до н. э. Одновременно с раскопками герой пишет книгу по мотивам расшифрованной им рукописи. Два действия разворачиваются параллельно: в Багдаде 2002–2003 гг., незадолго до вторжения войск НАТО, и во времена Шумерской цивилизации. Два мира существуют как будто в зеркальном отражении, в каждом – своя история, в которой переплетаются любовь, дружба, преданность и жажда наживы, ложь, отчаяние.

Книгу, которую вы держите в руках, вполне можно отнести ко многим жанрам. Это и мемуары, причем достаточно редкая их разновидность – с окраины советской страны 70-х годов XX столетия, из столицы Таджикской ССР. С другой стороны, это пронзительные и изящные рассказы о животных – обитателях душанбинского зоопарка, их нравах и судьбах. С третьей – раздумья русского интеллигента, полные трепетного отношения к окружающему нас миру. И наконец – это просто очень интересное и увлекательное чтение, от которого не смогут оторваться ни взрослые, ни дети.

Оксана – серая мышка. На работе все на ней ездят, а личной жизни просто нет. Последней каплей становится жестокий розыгрыш коллег. И Ксюша решает: все, хватит. Пора менять себя и свою жизнь… («Яичница на утюге») Мама с детства внушала Насте, что мужчина в жизни женщины – только временная обуза, а счастливых браков не бывает. Но верить в это девушка не хотела. Она мечтала о семье, любящем муже, о детях. На одном из тренингов Настя создает коллаж, визуализацию «Солнечного свидания». И он начинает работать… («Коллаж желаний») Также в сборник вошли другие рассказы автора.