Осенняя история - [32]
В лице Ландольфи итальянская литература опробовала, перефразируя современного классика, возможность эстетизма как формы сопротивления диктату жизни. Уже в дипломной работе 1932 (!) года, посвященной Анне Ахматовой, Ландольфи размышляет о соотношении искусства и реальности. Довольно быстро приходит он к выводу о том, что на вопрос: что же будет? — готов дать некий поприщинский ответ: вот то и будет, что ничего не будет.
Ощущение мнимости всего сущего не может не вызывать у Ландольфи, вслед за Гоголем, того «бледного отчаяния» (pallida disperazione), о котором Ландольфи напишет в поразительном по глубине ассоциаций предисловии к своему переводу «Петербургских повестей». Перед лицом мнимости бытия или «невосполнимой пустоты» (incolmabile vuoto), так и не «загустевшей», несмотря на отчаянные старания Гоголя, Ландольфи самому хочется раствориться, исчезнуть, подобно носу майора Ковалева. Что, между прочим, он и делает. Отвечая на яростную критику видного рецензента «Повестей» Витальяно Бранкати (Ландольфи досталось за то, что он трактует Гоголя как Эдгара По), Ландольфи публично отрицает всякую связь с Переводчиком, но при этом отстаивает высказанную точку зрения и даже обвиняет рецензента в ханжестве.
Примерно в то же время Набоков, наскуча брюзжанием в свой адрес «традиционной» эмигрантской критики, разыграл в соседней Франции Георгия Адамовича стихами поэта — фантома Шишкова. Возможным эпиграфом к большей части написанного ранним Ландольфи послужила бы именно набоковская формула: «Глупо искать закона, еще глупее его найти». Если Сирину крепко доставалось от литературной критики русского зарубежья и за «холодное и холостое воображение», восходящее к «безумному холостому началу гоголевского творчества», и за «молочно-белую пустоту», окружающую «будто бы судьбы и будто бы страсти» сиринской прозы, и за «сомнамбулизм» и «обезжизненную жизнь», и за «сожженные мосты к действительности» (когда-то так отзывались о прозе Ф. Сологуба), то Ландольфи за все перечисленное, наоборот, всячески превозносили, выделяя из среды сугубо витальных — «жизнеутверждающих», уточнили бы в прежних социалистических широтах, — и безнадежно невыразительных авторов того времени.
Однако поэтика Ландольфи — это не поэтика безысходности и пустоты. Скорее, это попытка восполнить пустоту, «просветить сумерки», по определению итальянского литературоведа Эрнестины Пеллегрини, и оставаться правдивым «с помощью нелепой фантазии». Плоды невероятной фантазии Ландольфи, все эти посланцы его личных сумерек, составляют галерею так называемых образов Ландольфи, куда входят и отец Кафки, и жена Гоголя, и пресловутый ландольфианский бестиарий, и дома-пространства-души, и женщина-тотем, и обильная биологическая атрибутика в виде плоти, крови и всевозможных выделений от Homo sapiens. Ландольфи просвещает сумерки, но просвещает их, по меткому сравнению критика, как человек, опускающий горящую лампочку в темный колодец. (На ум приходят строки из набоковского «Дара», где сказано, что Достоевский напоминает комнату, в которой днем горит лампа).
Тема особого исследования, которую можно лишь обозначить, — это отношения Ландольфи и его индивидуального подполья, а главное — смирительная роль языка в этих отношениях. Язык в данном случае выполняет уже не эстетическую функцию, о ней речь впереди, а практическую, если угодно, прикладную. Иначе говоря, язык становится инструментом обнаружения и подавления темной и опасной стороны человеческой природы, ее психологического подполья. Там, где усмирить темные инстинкты человека с помощью языка пока невозможно, язык осуществляет сдерживающую функцию, облекая подполье в некую вербальную оболочку, как противоязвенное средство, консервируя это подполье до поры до времени.
Ландольфи понимает, что единственным субъектом, заслуживающим на этом фоне полного доверия, оказывается авторское «я». И тогда альтернатива абсолютного стиля позволяет Ландольфи заслонить им действительность, исчерпать, превратить ее из низменного в предмет искусства, а значит, избежать очередного повода к отчаянию, вырваться из плена жизни пусть в другой набор условностей, но условностей, осознанных добровольно. Собственно для Италии Ландольфи — посторонний писатель, классик отстранившейся литературы. Литературы, истинным содержанием которой становится сама литература.
В литературных кругах Флоренции (а это и Монтале, и Луци, и Бо, и Макри, и Поджоли), и не только Флоренции, талант Ландольфи сразу стал своего рода общим местом. Он точно витал в воздухе, время от времени отливаясь в литературные формы, столь же необъяснимые, сколь и притягательные. Вот и члены редколлегии знаменитой некогда серии «Мастера современной прозы», собравшись в конце 80-х для утверждения издательского плана, не могли не ощутить этого притяжения Ландольфи, но и загадки тоже, ибо только и сумели, что воздеть глаза к потолку да проговорить:
— Ну, Ландольфи… — и утвердили его однотомник.
После внушительного дебюта Ландольфи в конце 30-х годов — сборника рассказов «Диалог о главнейших системах» и романа «Лунный камень» — от него постоянно ждали шедевра, соизмеримого с возможностями писателя, этаких итальянских «Мертвых душ» или «Мастера и Маргариты». Тот же Моравиа однажды обмолвился, что Ландольфи мог бы стать итальянским Булгаковым, если бы упрямо не демонстрировал, что не верит в то, о чем говорит, в тот самый момент, когда это говорит. Не знаю, что натолкнуло Моравиа на параллель Ландольфи-Булгаков, надеюсь, общий учитель этой двоицы — Гоголь. Надеюсь. Я-то думаю, что Моравиа абсолютно верно нащупал суть вопроса, и… дал на него абсолютно неверный ответ. Именно в силу указанной причины Ландольфи, как никто из итальянских писателей своего времени, приблизился к Булгакову, оставаясь при этом Ландольфи. Разуверенность Ландольфи в обстоятельствах внешней жизни укрепляла его веру в твердыню внутренней жизни, которую писатель мерил литературным, а не общественным аршином (и уж тем более не плотским, подобно зоркому обывателю Альберто Моравиа). По сути оба писателя — и Булгаков, и Ландольфи — писали «в стол»: только один в буквальном смысле, а другой, за отсутствием тоталитарного императива, — в переносном. Ну, а поскольку рукописи и вправду не горят, то параллель Ландольфи — Булгаков вполне допустима, ибо все творчество Ландольфи есть некоторым образом кровавый подбой итальянской литературы XX века.

Обедневший потомок знатного рода Ренато ди Пескоджантурко-ЛонджиноВведите, осматривая всякий хлам доставшийся ему от далеких предков, нашел меч в дорогих ножнах, украшенных чеканными бляхами…

Томмазо Ландольфи (1908–1979) практически неизвестен в России, хотя в Италии он всегда пользовался и пользуется заслуженной славой и огромной популярностью.Известный итальянский критик Карло Бо, отмечая его талант, неоднократно подчёркивал, что Ландольфи легко, играючи обращается с итальянским языком, делая из него всё, что захочет. Подобное мог себе позволить только Габриэле Д' Аннунцио.

Советскому читателю предстоит первое знакомство с книгой рассказов известного итальянского прозаика Томмазо Ландольфи. Фантастические события и парадоксальные ситуации, составляющие фон многих рассказов, всепроникающая авторская ирония позволяют писателю с большой силой выразить свое художническое видение мира и показать трагическое одиночество человека перед лицом фашизма (ранние рассказы) и современной буржуазной цивилизации.
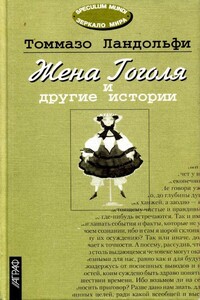
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Томмазо Ландольфи очень талантливый итальянский писатель, но его произведения, как и произведения многих других современных итальянских Авторов, не переводились на русский язык, в связи с отсутствием интереса к Культуре со стороны нынешней нашей Системы.Томмазо Ландольфи известен в Италии также, как переводчик произведений Пушкина.Язык Томмазо Ландольфи — уникален. Его нельзя переводить дословно — получится белиберда. Сюжеты его рассказав практически являются готовыми киносценариями, так как являются остросюжетными и отличаются глубокими философскими мыслями.

Цикл «Маленькие рассказы» был опубликован в 1946 г. в книге «Басни и маленькие рассказы», подготовленной к изданию Мирославом Галиком (издательство Франтишека Борового). В основу книги легла папка под приведенным выше названием, в которой находились газетные вырезки и рукописи. Папка эта была найдена в личном архиве писателя. Нетрудно заметить, что в этих рассказах-миниатюрах Чапек поднимает многие серьезные, злободневные вопросы, волновавшие чешскую общественность во второй половине 30-х годов, накануне фашистской оккупации Чехословакии.

Настоящий том «Библиотеки литературы США» посвящен творчеству Стивена Крейна (1871–1900) и Фрэнка Норриса (1871–1902), писавших на рубеже XIX и XX веков. Проложив в американской прозе путь натурализму, они остались в истории литературы США крупнейшими представителями этого направления. Стивен Крейн представлен романом «Алый знак доблести» (1895), Фрэнк Норрис — романом «Спрут» (1901).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Творчество Василия Георгиевича Федорова (1895–1959) — уникальное явление в русской эмигрантской литературе. Федорову удалось по-своему передать трагикомедию эмиграции, ее быта и бытия, при всем том, что он не юморист. Трагикомический эффект достигается тем, что очень смешно повествуется о предметах и событиях сугубо серьезных. Юмор — характерная особенность стиля писателя тонкого, умного, изящного.Судьба Федорова сложилась так, что его творчество как бы выпало из истории литературы. Пришла пора вернуть произведения талантливого русского писателя читателю.

В настоящем сборнике прозы Михая Бабича (1883—1941), классика венгерской литературы, поэта и прозаика, представлены повести и рассказы — увлекательное чтение для любителей сложной психологической прозы, поклонников фантастики и забавного юмора.

Чарлз Брокден Браун (1771-1810) – «отец» американского романа, первый серьезный прозаик Нового Света, журналист, критик, основавший журналы «Monthly Magazine», «Literary Magazine», «American Review», автор шести романов, лучшим из которых считается «Эдгар Хантли, или Мемуары сомнамбулы» («Edgar Huntly; or, Memoirs of a Sleepwalker», 1799). Детективный по сюжету, он построен как тонкий психологический этюд с нагнетанием ужаса посредством череды таинственных трагических событий, органично вплетенных в реалии современной автору Америки.