Осада Будапешта. Сто дней Второй мировой войны - [3]
По моим оценкам, на момент осады примерно до 15 процентов нееврейского населения Будапешта желали продолжения войны на стороне Германии. К этим людям относились и фанатики из организации «Скрещенные стрелы», и многие другие представители мужской и женской части населения (не обязательно члены этого движения), — все те, кто был убежден, что перспектива прихода в города Красной армии была наихудшим вариантом, и поэтому предпочел сопротивляться такому развитию событий. Еще 15 процентов населения имели прямо противоположные убеждения: союз Венгрии с гитлеровским рейхом означал для страны политическую и моральную катастрофу, и с этим необходимо было тем или иным способом бороться. Движение «Скрещенные стрелы» и его ставленники в правительстве являлись преступниками. И поэтому чем скорее русские оккупируют Будапешт, тем будет лучше. (Среди этого меньшинства коммунисты и симпатизирующие им составляли очень незначительное количество.) Наконец, оставшиеся примерно 70 процентов населения (еще раз прошу считать все эти цифры очень условными, даже спорными в соответствии с правилом большого пальца — очень приблизительного подсчета) были полностью заняты собственными проблемами. Иногда они задумывались над общим ходом событий, иногда — нет. Но по большей части они были озабочены лишь вопросами выживания и нависшей над ними и их семьями угрозой. Эта часть населения не имела ясной идеи того, что будет после осады, в их умах царили путаница и смятение.
За исключением нескольких обобщений, невозможно дать социопсихологическое объяснение этому глубокому, порой фатальному разделению населения на группы. Интересно отметить, что оставшаяся часть венгерской национальной аристократии была настроена в основном антинацистски (то есть по существу эти люди, по крайней мере на какое-то время, были сторонниками русских). И это несмотря на то, что этот класс ждали самые большие потери с приходом русских и коммунистического правления, а значит, он, казалось бы, должен был больше всего его бояться. В то же время в рабочей среде были широко распространены пронемецкие и социал-националистические настроения и даже убеждения. (То же самое можно сказать и о сторонниках теории Маркса и прочих.) Так называемые христианские (в те времена это обозначало, что такие люди не принадлежат к евреям и социалистам) представители среднего класса также делились на те же группы и приблизительно в тех же пропорциях 15:70:15. То же касается и разделения людей, отличавшихся отношением к религии: верующих и неверующих; священников и паствы. И остальных общественных групп: учителей, судей, адвокатов, гражданских служащих, торговцев, полицейских и т. д. Во время осады взгляды некоторой части представителей внутри различных общественных групп неизбежно должны были кардинально измениться в связи со страшными испытаниями, через которые этим людям пришлось пройти.
То же самое относится и к памяти людей. Как я уже писал выше, слишком многие предпочли совсем подавить ее, нежели попытаться все осмыслить заново и восстановить в уме цепочку событий.
К одному из сложных моментов до настоящих дней, когда нас от тех событий отделяют шестьдесят лет, все еще относится вопрос о еврейском населении Будапешта тех лет и его отношениях с другими группами населения. Условия сложились так причудливо, что (в отличие от науки в истории зачастую на передний план выходят именно исключения, а не правила), когда в конце 1944 г. началась битва за Будапешт, еврейское население города представляло собой самую большую группу выживших евреев в гитлеровской Европе, то есть фактически во всей Европе. К ним применялись законы дискриминации, их преследовали и угнетали. Многие успели погибнуть, но большинство все же было все еще живо. И конечно, они испытывали сильнейший страх за свою жизнь и ждали «освобождения», кто бы ни принес им его.
Самые смертельные и резкие противоречия между и внутри отдельных групп населения Будапешта зачастую были связаны с тем, как эти люди относились (физически или морально) к своим еврейским соседям. Сами евреи тоже были неоднородны по составу и делились на множество подгрупп. С одной стороны, было (и остается в наши дни) невозможно оценить их точную численность. В основном это связано с большим количеством смешанных браков между евреями и христианами, а также с наличием значительного количества евреев, исповедовавших христианскую веру. Можно сказать, что вплоть до начала Второй мировой войны быстрыми темпами шел процесс ассимиляции еврейского населения, его растворения в венгерском народе. Но царивший в то время антисемитизм носил не религиозный, а расовый характер. Преследованиям и нападкам подвергались уже ассимилировавшиеся, богатые и успешные представители еврейской части населения Венгрии. И венгерский антисемитизм, случаи проявления которого были единичными до Первой мировой войны, получил огромный толчок в форме национальной реакции на короткое время правления коммунистического режима в 1919 г., когда две трети комиссаров были евреями. Результатом явился и антисемитизм режима Хорти, ставший официальной государственной политикой, антиеврейские законы и ограничения, принятые в 1938–1941 гг., иногда отнюдь не как реакция на требования немецкой стороны, хотя были и такие случаи. Двадцать пять лет антиеврейского воспитания и пропаганды оказали влияние на многих. А теперь судьба евреев висела на ниточке, вернее, на нескольких быстро рвущихся хрупких нитях.
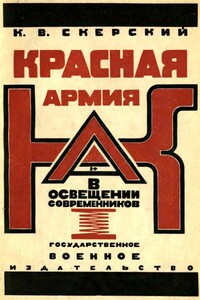
Предлагаемые вниманию читателя страницы представляют попытку дать историю первых семи лет существования Красной армии, отраженную в кривом зеркале белого восприятия.Автор стремился подобрать все наиболее ценные отзывы о Красной армии, не преследуя какой-либо одной предвзятой тенденции: приведены мнения, как положительные, так и отрицательные, как объективные, так и тенденциозные или прямо инсинуирующие.
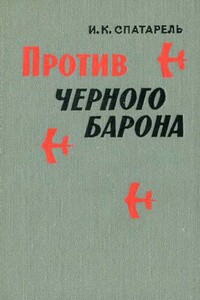
В 1911 году пять простых русских солдат впервые стали летчиками. Среди них был и выходец из бедной крестьянской семьи, молодой помощник паровозного машиниста Иван Спатарель.Воспоминания генерала И. К. Спатареля начинаются с рассказа о пионерах отечественной авиации Ефимове и Крутене. Но главное их содержание составляет широкий и правдивый показ героизма первых красных летчиков в годы гражданской войны.Наиболее полно автор освещает завершающие бои с белогвардейщиной — разгром Врангеля в Крыму. В то грозное время И. К. Спатарель командовал Перекопской авиагруппой Южного фронта.
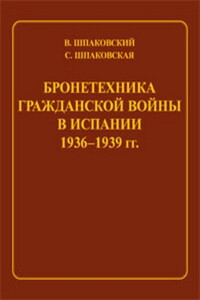
Книга в научно-популярной форме рассказывает о танках и бронеавтомобилях гражданской войны в Испании 1936–1939 гг., их использовании воюющими сторонами, а также об организации, униформе, знаках различия танковых формирований. Книга содержит много интересных фактов, раннее не публиковавшихся в нашей стране. Издание адресовано широкому кругу читателей, увлекающихся военной историей.
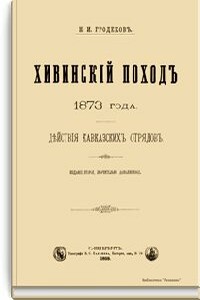
Текст воспроизведен по изданию: Хивинский поход 1873 года. Действия кавказских отрядов. СПб. ред. журнала «Русская старина» 1883© текст — Гродеков Н. И. 1883© Русская старина. 1883© сетевая версия — Thietmar. 2006© OCR — Орлов В. 2006© Корректура — netelo. 2006© дизайн — Войтехович А. 2001Мы приносим свою благодарность netelo за помощь.
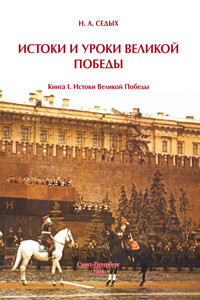
В монографии исследована проблема сохранения России как государства. Сделан анализ исторических событий, предшествующих Великой Отечественной войне, начиная с конца XVIII века и по 22 июня 1941 года. Дана оценка предельно негативной и откровенно враждебной роли США, Англии и других стран Запада, а также Японии в судьбе России на разных этапах становления и развития нашего государства. Подробно отражена спасительная миссия И. В. Сталина как великого государственника в деле защиты отечества от внешних и внутренних врагов.Книга будет интересна всем любителям истории, и тем кому не безразлична судьба России.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.