Оперативный вальс в германском посольстве - [2]
Она быстро поняла: прием организован на скорую руку. Еда — невкусная, приготовленная небрежно, словно для отмазки. Во все разговоры с гостями лезет военный атташе — установленный советской разведкой представитель абвера. Он нагло нарушает этикет и даже перебивает уважаемого посла Вернера фон дер Шуленбурга. Немцы захотели создать впечатление общения представителей культуры двух стран, дабы показать, что все в порядке, Договор о ненападении в силе. Ярцевой пришлось переводить официальные речи и тосты. Занятие, не оставляющее времени ни на еду, ни на общение.
Но тут грянул вальс. Кто-то поставил пластинку, и сам Шуленбург пригласил красавицу-переводчицу на танец. Та с радостью — по понятным причинам вполне искренней — согласилась. И предчувствия майора Рыбкину не обманули.
Здесь я напомню то, чего нет ни в каких книгах Зои Ивановны Воскресенской. Рискуя карьерой и идя против собственного министерства иностранных дел, посол Шуленбург убеждал Гитлера не начинать военных действий против СССР. Возможно, посол для убедительности своих докладов из Москвы даже завышал военный потенциал Советского Союза. Вовсе не собираясь делать антифашиста из представителя немецкой знати, замечу: по некоторым данным, проверить которые абсолютно невозможно, в трех беседах с прямым коллегой, послом СССР в Берлине Деканозовым, Шуленбург предупреждал о грядущем нападении Гитлера, не называя точной даты.
В ноябре 1944 года фон Шуленбург, участник заговора против Гитлера, был казнен. А удался бы группе немецких офицеров вермахта план «Валькирия», не передвинь кто-то случайно портфель с бомбой, пронесенный Клаусом фон Шта-уффенбергом на совещание у Гитлера, и, вероятно, быть Шуленбургу министром иностранных дел Германии.
Был и важный психологический мотив в действиях Шуленбурга. Он занимал пост послав СССР с 1934 года. Должен заметить, что долгое пребывание в чужой стране почти ни для кого не проходит бесследно. Ты невольно проникаешься уважением к державе, ставшей для тебя близкой. Следишь за ее делами и планами, будто за своими собственными. Воевать против нее кажется глупым. Вернер фон дер Шуленбург, чья нога ступила на нашу землю еще в 1906 году (Варшава тогда входила в состав Российской империи), совсем не хотел войны с Советами.
А теперь вернемся к загадочному вальсу 17 мая 1941 года.
Чемоданы в дальней комнате
Шуленбург честно признался обаятельной партнерше, что не слишком любит танцевать. Однако совсем немолодой кавалер старательно «прокружил» даму в бархатном по посольским помещениям. Трудно считать это случайностью. И уж тем более невнимательностью опытнейшего дипломата…
Сколько же важных деталей подметил наметанный взгляд майора Воскресенской! Во многих залах картины были сняты со стен, причем недавно: на их месте яркая, не выцветшая краска. А в одной из дальних комнат Рыбкина увидела горку чемоданов. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы уразуметь: в посольстве готовятся к близкому отъезду.
Прозвучал последний аккорд. Ослепительная чиновница ВОКСа заторопилась домой, тем более что военный атташе Германии вдруг затеял ее проверку: в каком отделе общества культурных связей работаете, по какому направлению, какие планы ближайших командировок? Атташе, как пишет Воскресенская в своей книге, успел по каким-то каналам проверить: гостья блефует. И с гордостью сообщил ей об этом открытии. Но майор в бархатном платье не слишком утруждала себя поиском ответов. Зоя Ивановна резко оборвала собеседника на полуфразе. Атташе ей был не нужен, плевать она на него хотела.
Вот тут-то абсолютно случайно (и на сей раз это чистая правда) подоспела всегда отличавшаяся решительностью моя соседка по дому Марина Тимофеевна Семенова, скончавшаяся на 102-м году жизни. Усталая после спектакля, да еще и бесполезного приема, прима-балерина со словами «пора и честь знать» первой покинула посольство. На машине ВОКСа уехала и Зоя Ивановна Рыбкина.
Охрана у дверей руководителя контрразведки была удивлена, когда женщина в бархате предъявила удостоверение майора, поспешила к самому Федотову, а тот ее мгновенно принял. Майор сноровисто доложила о снятых картинах, собранных чемоданах и всем прочем, подтверждающем скорый отъезд посольства.
За один месяц и пять дней до начала войны.
Увы, и на сей раз Сталин отнесся скептически к горячей оперативной информации.
«Родина». — 2015. - № 6. — С. 26–28.
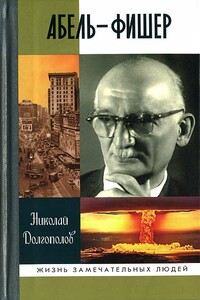
Хотя Вильям Генрихович Фишер (1903–1971) и является самым известным советским разведчиком послевоенного времени, это имя знают не очень многие. Ведь он, резидент советской разведки в США в 1948–1957 годах, вошел в историю как Рудольф Иванович Абель. Большая часть биографии легендарного разведчика до сих пор остается под грифом «совершенно секретно». Эта книга открывает читателю максимально возможную информацию о биографии Вильяма Фишера.Работая над книгой, писатель и журналист Николай Долгополов, лауреат Всероссийской историко-литературной премии Александра Невского и Премии СВР России, общался со многими людьми, знавшими Вильяма Генриховича.
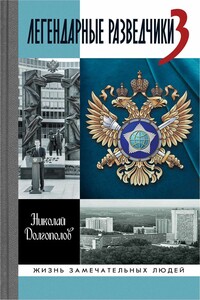
Новая книга известного автора посвящена 100-летию создания отечественной внешней разведки ИНО — ПГУ — СВР. Главная ее особенность: новые, только что открытые герои, в основном разведчики-нелегалы. Некоторых из них, а также их жен и боевых спутниц автор знал лично. Вы познакомитесь с Героем Советского Союза Михаилом Васенковым, ушедшим в разведку еще во второй половине 1970-х, с Героями России Юрием Шевченко и Виталием Нетыксой и несколькими другими выдающимися разведчиками, чьи подвиги буквально до последних месяцев были под грифом «Совершенно секретно», узнаете имя первого послевоенного Героя Советского Союза среди разведчиков.
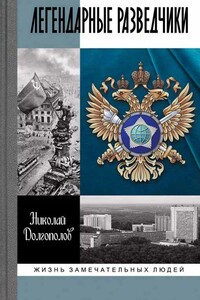
Герои этой книги — люди легендарные. Они составили славу советской и российской разведки. Некоторые из них во время Великой Отечественной войны боролись с фашизмом, действуя в тылу врага, другие выявляли угрозу безопасности нашему государству, работая в разных странах, на других континентах. Историк разведки Николай Долгополов представил в своей новой книге, подготовленной к 95-летию Службы внешней разведки России, целую плеяду разведчиков, защищавших нашу родину на дальних и ближних рубежах.
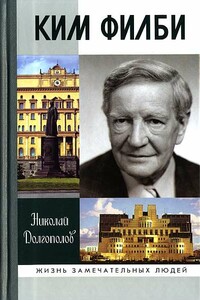
Западные специалисты считают Кима Филби (1912–1988) наиболее известным из советских разведчиков. Британский аристократ, выпускник Кембриджа, он в 1934 году связал свою судьбу с советской разведкой, по ее заданию поступил на службу в СИС — разведку Великобритании. Карьера, которую сделал советский разведчик в рядах этой спецслужбы, поражает: в 1944 году он руководил отделом, занимавшимся борьбой с советской разведкой на английской территории, в 1949–1951 годах возглавлял в Вашингтоне миссию по связи СИС и ЦРУ.
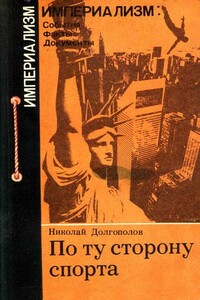
Содержание книги известного спортивного журналиста можно охарактеризовать коротко: быт и нравы буржуазного спорта. Бизнес и спорт, разрушение человеческой морали и формирование антиличности, политиканство и расизм — обо всех этих и иных тёмных пороках «их» спорта рассказывает книга, названная автором «По ту сторону спорта».

Геворк Андреевич Вартанян (1924—2012) — первый сотрудник нашей нелегальной разведки, удостоенный звания Героя Советского Союза в период работы за рубежом в мирное время. Вместе со своей супругой, Гоар Левоновной, он 45 лет отработал в «особых условиях» — вдали от родины, превратившись, согласно оперативной легенде, в удачливого и очень состоятельного коммерсанта. Разведчику пришлось бывать и работать примерно в ста странах мира — и в ряде из них его «контактами» были высшие руководители государств, спецслужб и вооруженных сил.До недавнего времени наши знания о работе Геворка Вартаняна ограничивались событиями обеспечения безопасности «Большой тройки» во время Тегеранской конференции 1943 года.

Чудесные исцеления и пророчества, видения во сне и наяву, музыкальный восторг и вдохновение, безумие и жестокость – как запечатлелись в русской культуре XIX и XX веков феномены, которые принято относить к сфере иррационального? Как их воспринимали богословы, врачи, социологи, поэты, композиторы, критики, чиновники и психиатры? Стремясь ответить на эти вопросы, авторы сборника соотносят взгляды «изнутри», то есть голоса тех, кто переживал необычные состояния, со взглядами «извне» – реакциями церковных, государственных и научных авторитетов, полагавших необходимым если не регулировать, то хотя бы объяснять подобные явления.

Новая искренность стала глобальным культурным феноменом вскоре после краха коммунистической системы. Ее влияние ощущается в литературе и журналистике, искусстве и дизайне, моде и кино, рекламе и архитектуре. В своей книге историк культуры Эллен Руттен прослеживает, как зарождается и проникает в общественную жизнь новая риторика прямого социального высказывания с характерным для нее сложным сочетанием предельной честности и иронической словесной игры. Анализируя этот мощный тренд, берущий истоки в позднесоветской России, автор поднимает важную тему трансформации идентичности в посткоммунистическом, постмодернистском и постдигитальном мире.

В книге рассматривается столетний период сибирской истории (1580–1680-е годы), когда хан Кучум, а затем его дети и внуки вели борьбу за возвращение власти над Сибирским ханством. Впервые подробно исследуются условия жизни хана и царевичей в степном изгнании, их коалиции с соседними правителями, прежде всего калмыцкими. Большое внимание уделено отношениям Кучума и Кучумовичей с их бывшими подданными — сибирскими татарами и башкирами. Описываются многолетние усилия московской дипломатии по переманиванию сибирских династов под власть русского «белого царя».

Предлагаемая читателю книга посвящена истории взаимоотношений Православной Церкви Чешских земель и Словакии с Русской Православной Церковью. При этом главное внимание уделено сложному и во многом ключевому периоду — первой половине XX века, который характеризуется двумя Мировыми войнами и установлением социалистического режима в Чехословакии. Именно в этот период зарождавшаяся Чехословацкая Православная Церковь имела наиболее тесные связи с Русским Православием, сначала с Российской Церковью, затем с русской церковной эмиграцией, и далее с Московским Патриархатом.

Н.Ф. Дубровин – историк, академик, генерал. Он занимает особое место среди военных историков второй половины XIX века. По существу, он не примкнул ни к одному из течений, определившихся в военно-исторической науке того времени. Круг интересов ученого был весьма обширен. Данный исторический труд автора рассказывает о событиях, произошедших в России в 1773–1774 годах и известных нам под названием «Пугачевщина». Дубровин изучил колоссальное количество материалов, хранящихся в архивах Петербурга и Москвы и документы из частных архивов.

В монографии рассматриваются произведения французских хронистов XIV в., в творчестве которых отразились взгляды различных социальных группировок. Автор исследует три основных направления во французской историографии XIV в., определяемых интересами дворянства, городского патрициата и крестьянско-плебейских масс. Исследование основано на хрониках, а также на обширном документальном материале, произведениях поэзии и т. д. В книгу включены многочисленные отрывки из наиболее крупных французских хроник.