Океан времени - [4]
Здесь мироощущение Оцупа близко к линии, проводимой тогдашним Мандельштамом. Романтическое сочетание чувства трагизма эпохи и жизнеутверждающей силы навеяно и поздними стихами Гумилева.
В этом сложном переплетении поэтических влияний и литературных реминисценций нельзя, однако, не почувствовать и характерной для всего творчества Оцупа тяги к образам и мотивам русской классической литературы XIX века. Так, «Я приснился себе медведем…» восходит ко сну Татьяны в «Евгении Онегине». Стихотворение «Сон» явно навеяно кошмаром Ипполита в «Идиоте» Достоевского. И все же, несмотря на эту известную зависимость (хотя множество источников уже означает начало их преодоления), «Град» не лишен неоспоримой творческой оригинальности. Эта оригинальность проявляется как в поэтике сборника и его тематике, так и в мироощущении поэта. Поэтика «Града» основана на искусном использовании наложения планов, на удачной контрапунктической смене или комбинации сна и яви, фантастики и реальности, личного и чужого, причем в отличие от Гумилева, у которого господствует связь с живописью, в лирике Оцупа тот же живописный элемент тесно связан с музыкальным. В этом отношении стихотворение, посвященное гибели Гумилева, — симфония ярких красок бытия, медленный темп реквиема. Пантеистическое восприятие мира, неразрывная связь между телом и душой поэта, природой и космосом, останутся в лирике Оцупа до рубежа 1930-х годов.
В «Граде» реестр поэтического языка довольно велик. С торжественных высот поэт естественно переходит к прозаически точным деталям. Поражает даже преобладающее и как бы принципиальное использование повседневного языка. Отмечается характерная для поэтов-акмеистов тщательная и до предела точная работа над словесным воплощением образа&
Но, пожалуй, важнее всего выделить зарождение основной в дальнейшем творчестве Оцупа темы любовной лирики. Это тема спасения мужчины женщиной как единственно возможного «исхода из вьюг» (по выражению А. Блока). Ощущение неизбежной гибели прочно ассоциируется с чувством озарения, воскресения, преобразования. С этой точки зрения ключевым стихотворением «Града» является «На дне»:
Летом 1921 года на Оцупа обрушился двойной удар. «7 августа 1921 года умер в страшных мучениях Блок. 24 августа того же года расстрелян Гумилев», — записывает Николай Авдеевич. «На Смоленском кладбище, — продолжает он, — мы пронесли на руках гроб Блока».
В ту ночь ушедший Блок приснился Оцупу. В зубах он держал записку о России:
«На похоронах Блока, — вспоминает Николай Оцуп, — представители самых видных петербургских научных и литературных организаций сговорились идти в Чека с просьбой выпустить Гумилева на поруки. Попытка была сделана академиком С. Ф. Ольденбургом, А. Л. Волынским, Н. М. Волковысским и мной. Принял нас председатель Чека Бакаев». Ходатайство, как известно, не имело успеха. Оцуп пережил расстрел Гумилева как семейный траур и личное предупреждение. Долгие годы спустя он поведал мне объяснение Бакаева: «Лес рубят, щепки летят» — Горе и негодование блестели в его черных, навыкате, чуть влажных глазах.
«Не сочувствуя революции, — пояснял Оцуп, — он (Гумилев. — Л. А.) черпал в ее стихии бодрость, как если бы страшная буря застала его на корабле, опьяняя опасностью и свежими солеными брызгами волн». Сам Гумилев поддавался парадоксальному обаянию этого баснословного времени. Поистине удивительными были те годы, когда обитатели и обитательницы «Дома искусства» («обдисы» и «обдиски») жили рядом с залами, где виднейшие литераторы читали свои произведения, лекции по поэтическому искусству, истории русской и иностранной литературы и т. д. Больше того: в ту пору совершалось как будто какое-то таинство.
писала А. Ахматова.
как бы отвечал ей Адамович.
вздыхал О. Мандельштам.
«Был в Петербурге и во всей России, — рассказывает Оцуп в своей «Автобиографической заметке», — период чтения лекций по искусству и литературе. Лекторы в шубах и валенках читали в нетопленых помеще ниях, наполненных промерзшими и жадными до Леконт де Лиля людьми. Я читал лекции в Пролеткульте, в Союзе молодежи, в Балтфлоте и т. д. Приблизительно там же читали Н. Гумилев, Евг. Замятин, Андрей Белый, К. Чуковский и др. Аудитория красноармейцев, пролеткультцев и других привлекательна по многим причинам. Во-первых, среди тупиц, составляющих веселое большинство земного шара, были очень хорошие люди, в редких случаях даже талантливые. Во-вторых, освежало лекции и беседы то, что на людей, из которых большинство ничего не слышало о Тютчеве и Баратынском и очень мало о Лермонтове, вдруг сваливаются Анненский и Теофиль Готье. Наивное благоговение такой аудитории, конечно, явление не художественное, но гораздо выше по природе развязных толков о поэзии людей, слышавших обо всем понемногу».

Князь Андрей Волконский – уникальный музыкант-философ, композитор, знаток и исполнитель старинной музыки, основоположник советского музыкального авангарда, создатель ансамбля старинной музыки «Мадригал». В доперестроечной Москве существовал его культ, и для профессионалов он был невидимый Бог. У него была бурная и насыщенная жизнь. Он эмигрировал из России в 1968 году, после вторжения советских войск в Чехословакию, и возвращаться никогда не хотел.Эта книга была записана в последние месяцы жизни князя Андрея в его доме в Экс-ан-Провансе на юге Франции.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
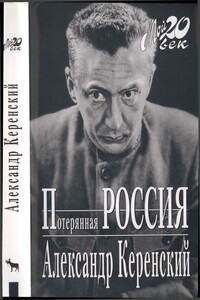
Современному читателю впервые представлены воспоминания и политический дневник Александра Федоровича Керенского (1881–1970), публиковавшиеся с 1920–х годов в русской периодике Парижа, Берлина, Праги, Нью- Йорка. Свидетельства одного из главных участников Февральской революции 1917 года до сих пор остаются в числе самых достоверных источников по истории России.

Он больше чем писатель. Латиноамериканский пророк. Например, когда в Венесуэле (даже не в родной Колумбии!) разрабатывался проект новой конституции, то в результате жаркой, чудом обошедшейся без применения огнестрельного оружия дискуссии в Национальном собрании было решено обратиться к «великому Гарсия Маркесу». Габриель Гарсия Маркес — человек будущего. И эта книга о жизни, творчестве и любви человека, которого Салман Рушди, прославившийся экзерсисами на темы Корана, называет в своих статьях не иначе как «Магический Маркес».

Это не полностью журнал, а статья из него. С иллюстрациями. Взято с http://7dn.ru/article/karavan и адаптировано для прочтения на е-ридере. .

Владимир Дмитриевич Набоков, ученый юрист, известный политический деятель, член партии Ка-Де, член Первой Государственной Думы, род. 1870 г. в Царском Селе, убит в Берлине, в 1922 г., защищая П. Н. Милюкова от двух черносотенцев, покушавшихся на его жизнь.В июле 1906 г., в нарушение государственной конституции, указом правительства была распущена Первая Гос. Дума. Набоков был в числе двухсот депутатов, которые собрались в Финляндии и оттуда обратились к населению с призывом выразить свой протест отказом от уплаты налогов, отбывания воинской повинности и т. п.