Охота на сурков - [181]
— Кончай волыпку, — но очень громко, в тоне мягкого увещевания прервал его Балтазар Цбраджен, брат Ленца. Балтазар был всего на несколько лет моложе, сидел на другом конце деревянного мореного стола, первоначально оранжевого цвета, а потом потемневшего; от Ленца Балтазар был отделен батареей бутылок, рюмками и пепельницами с горой окурков.
— Перестань думать об этом, золотко, — сказала Верена Туммермут, из уважения ко мне она старалась изъясняться не на диалекте.
Ленц выпил рюмку до дна и тут же небрежно налил себе еще вина из бутылки.
— Твое шпионство могло бы обеспокоить капитана Урса Ксавера Доминика Фатерклоппа. Да, его бы оно обеспокоило, но меhя оно не беспокоит. Правда, Верена? Наш Аль-бертик — миляга.
— Плохой патриот, по не шпион.
— Верена, я докажу тебе, что он миляга-шпион. За твое здоровье, Альбертик! Ты спрашивал Солдата-Друга, есть ли у нашего ручного пулемета «фуррер-двадцать пять» возвратная пружина или что-нибудь другое, а также на что его ставят: на станок или на сошки. Верена мне рассказывала, что ты еще молодым был офицериком в австро-венгерской армии. Ну а раз этой армии больше не существует, — последние слова он произнес невесело, хотя и тоном человека, который явно навеселе, — раз ее не существует, то не сочти меня шпионом, если я спрошу перво-наперво: послушай, как у вас там было?
— У нас?.. У нашего старого «максима» был фантастический станок с нижним и верхним стальными щитами. Он выглядел как пулемет рыцарских времен.
— Пулемет рыцарских времен. Вот насмешил! — обрадовалась Верена.
— Это чудовище, соответствующим образом оснащенное для марша, весило триста кило. Самый тяжелый пулемет в истории человечества.
— Ха-ха, — невесело рассмеялся Ленц, — ну и пушечка у вас была, воображаю. Сколько выстрелов в секунду она делала?
— Ммм, приблизительно шесть.
— Хе-хе. У нас, швейцарцев, тоже был пулемет «максим» с возвратной пружиной, на станке, но делал он десять выстрелов в секунду. И знаешь, сколько он весил на марше?..
— Кончайте волынку, — опять раздался мягкий увещевающий голос Балтазара с другого конца стола.
— Иди-ка ты, брат. — Трубный голос Ленца заглушил слова Балтазара. — Знаешь, сколько он весил, включая станок? Всего пятьдесят кило. В шесть раз меньше вашего императорско-королевского «максима». Ха-ха-ха.
— Преимущество исконной демократии, — сказал я. — Наш родной пулеметик, впрочем, тоже весил всего шестьдесят кило и делал десять выстрелов в секунду. Австрийская республика взяла на вооружение этот пулемет «ноль-семь-двадцать четыре» и почти не улучшила.
— Австрийская республика? Что-то я не понимаю. И такой я не знаю, — вновь проорал Ленц. — Ха-ха-ха-ха. — На сей раз смех его звучал почти весело, он словно бы опять стал тем «неотразимым» красавцем мужчиной, каким я впервые увидел его в баре Пьяцагалли. — А ну-ка угадай, сколько весит наш легкий пулемет вместе с сошками?
— Кончай волынку.
Восклицание Вальца на сей раз отнюдь нельзя было назвать мягким, оно звучало очень резко. Молодой Цбраджен столь решительно поднялся со своего места на другом конце стола, что толкнул стоящую позади вешалку, на которой закачался какой-то предмет. Карабин.
Только теперь я заметил, что в зале висел карабин. Заметил также, что Бальц небрежно взял его в руки, по-видимому, проверил, стоит ли он на предохранителе. На Бальце, как и на брате, был псевдошикарный штатский костюм и шутовская турецкая феска, но Бальц был меньше ростом и уже в плечах, кроме того, он не обладал красотой Ленца, его профиль не был столь смел и не напоминал профили, высеченные на динарах; выражение лица у него было настолько сосредоточенно-решительное, что я сразу забыл о шутовской феске. Он обратился к Ленцу с короткой речью, говорил в высшей степени сухо и на диалекте, лишь незначительно отличавшемся от того литературного немецкого, на каком говорят в Швейцарии (не помню уж, кто — не то Полари, не то Верена Туммермут — сообщил мне, что род Цбрадженов происходит из кантона Ури). Ленц отрапортовал: «Слушаюсь, Великий могол!» — после чего две сдвинутые турецкие фески разошлись в разные стороны; Бальц повернулся ко мне и сказал не то чтобы невежливо, но весьма сухо: мол, мне как иностранцу не рекомендуется, исходя из наших общих интересов, беседовать на тему: «Пулеметы в швейцарской армии». Отправляясь на танцплощадку, Ленц возвестил:
— Угадайте, кто самый бравый служака во всем нашем батальоне? Унтер-офицер Бальц Цбраджен, — это он произнес тем же тоном, что и «брат», — Бальц Цбраджен стоит на страже, бдит, следит за всем. Почти за всем. Ведь не уследил же он в конце концов тогда и несчастный случай…
— Довольно болтать о несчастном случае, золотко, — возразила Верена Туммермут, — ничего ведь не произошло.
— Да, но почти произошло. Еще чуть-чуть, и моего командира роты, моего Кади, здорово задело бы. А теперь Солдата-Друга будет судить военный суд.
— Перестань думать об этом, золотко. Они отпустят твою душу на покаяние.
— Да?.. Ты так считаешь, Верена? — В устах Ленца эти слова звучали как-то странно, осторожно и неопределенно, быть может, с оттенком насмешки. — Неплохой парень этот наш Бальц и очень мне предан… — сказал он, смотря в зал, где воздух был такой, что хоть топор вешай.
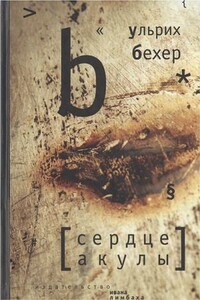
Написанная в изящной повествовательной манере, простая, на первый взгляд, история любви - скорее, роман-катастрофа. Жена, муж, загадочный незнакомец... Банальный сюжет превращается в своего рода "бермудский треугольник", в котором гибнут многие привычные для современного читателя идеалы.Книга выходит в рамках проекта ШАГИ/SCHRITTE, представляющего современную литературу Швейцарии, Австрии, Германии. Проект разработан по инициативе Фонда С. Фишера и при поддержке Уполномоченного Федеративного правительства по делам культуры и средств массовой информации Государственного министра Федеративной Республики Германия.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Повесть о рыбаках и их детях из каракалпакского аула Тербенбеса. События, происходящие в повести, относятся к 1921 году, когда рыбаки Аральского моря по призыву В. И. Ленина вышли в море на лов рыбы для голодающих Поволжья, чтобы своим самоотверженным трудом и интернациональной солидарностью помочь русским рабочим и крестьянам спасти молодую Республику Советов. Автор повести Галым Сейтназаров — современный каракалпакский прозаик и поэт. Ленинская тема — одна из главных в его творчестве. Известность среди читателей получила его поэма о В.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.
