Огоньки на той стороне - [22]
Вот что плохо: человека можно к невероятным вещам приучить. Даже к потере. Даже к процессу теряния. Чтобы у него жизнь убывала-утекала сквозь пальцы, как вода, чтобы он, больше того, утечку ясно видел, только сделать ничего не мог, да!
Все-таки она ему сказала однажды, сказала, наконец, сказала, почему исчезает. Что — есть у нее.
Ах же ты екорный бабай! Вот как оно приходит. Шнобель не ревностью мучился: человек негордый, он не очень старался представлять, что поделывает Надя в остальные пять дней. Он сердцем допускал как естественный факт, что в те дни, когда он ее не видел, ее, может быть, и вообще не было. В этом мире. Он привык к счастью по вторникам и субботам.
И вот теперь это у него отнимали. Надя появлялась все реже, и он страдал без нее в привычные дни ее былого наличия, но еще сильнее мучил его страх, что ее — не просто меньше, а она для него кончается. И скоро совсем кончится.
Но что он мог сделать? Повлиять на женщину из иного мира?.. Даже спасительную привычку жить, пока живется, жевать, пока жуется, выработанную длительным курсом заглушки нервных центров, он уже давно перековал на привычку жить в понедельник вторником, а в среду, четверг и пятницу — субботой. Жить-для-завтра. Что он мог теперь поделать, когда завтра обещало только одно: полную пустоту?
Он лежал, обхватив закинутыми за голову руками холодные прутья изголовья. В такие же холодные железные прутья упирался он пальцами ног и глядел на шары, навинченные поверх прутьев, на лампочку без абажура под потолком. Он чувствовал, как в тупой немоте его мозга рождается болезненный крик; и он открывал рот, чтобы облегчить мозг, но изо рта выходило тихое «м-м». Или философское «Вот то-то, гляди, и оно, что так-то оно так». Он брал ножницы и долго, тщательно резал старые газеты ровными полосками и не убирал их. Бумага кончилась, когда весь пол покрылся ею, и Шнобель топтал ее, а она шуршала и, накопившись, уже слегка пружинила.
Иногда же он все-таки выходил из дома и направлялся в районную библиотеку взять партизанские мемуары. Он возвращался домой с книгой и аккуратно читал ее от корки до корки, но видел во все время чтения только буквы, буквы, сложенные в случайные слогоблоки. «…Гауляйтерэрихкохпа-лачу-краины» — такое читал часами Голобородько и смолил «Прибой». «Прибой» сделался невкусным, курить не хотелось, и чем больше не хотелось, чем противнее был табак, тем больше он курил, жег горло, душу и двенадцатиперстную кишку.
Он читал, курил, а сам все думал о том, в чем не мог разобраться. О справедливости. Что ж, все должно быть по справедливости, он и раньше так полагал. И то, что Надя уходит, справедливо по отношению к ней. Она достойна большего. Но в отношении его, Григория Ивановича, в отношении его — где справедливость? Что он такого набедокурил, чтобы его карать? Он же не виноват, что ее любит? Что не знает, как без нее и… вообще. Просто. Быть.
Не виноват. Почему же справедливость по отношению к ней проводится за счет несправедливости по отношению к нему? Есть в этой справедливой несправедливости — справедливость?
Нет. Так почему эти, главные, которые проводят мероприятия по справедливости, почему не придумают остроумный, правильный технический вариант? Мысль может все, она даже такое может, чтобы Наде досталось то, что ей нужно, а ее чтобы от него все-таки не забирать. Наверное, может и такое, только надо думать. Вникать в суть вопроса; на то они, те, и поставлены.
Но кто ты, чтобы жаловаться, и где они, чтобы им жаловаться? От обиды и ясного сознания бессилия страдания Шнобеля перерабатывались в ненаправленную злобу, ищущую только — вырваться на волю и захмелеть самой от себя. А поскольку он верил, что в жизни надо делать добро, а не зло, выходило, что злобу эту знакомую следовало в себе задушить. Дело принимало совсем уже невыносимый оборот: задушить в себе эту сильную злобу было явно не по зубам инвалиду II группы.
Нет, чего там, можно все. Можно даже засыпать с двойной-то порцией снотворного, если только менять периодически барбитураты для-против-иммунитета.
А вот просыпаться не хочется. А вот вносить в таком состоянии своевременно коммунальные платежи — нет сил! А вот жевать и проглатывать — отсутствие слюны не дает.
Не хочу, чтобы о Наде думали плохо. Она в те дни тоже имела вполне бледный вид.
Относительно того, что с ней произошло, распространяться долго не буду. Просто: пора пришла (и это совершенно верно, в духе мало ему знакомых, но кровно чувствуемых гуманистических традиций русской классики угадал Шнобель) — она влюбилась. Отдохнув душой пару лет при помощи Голобородько, Надя — не без боязни — позволила себе уже настоящую любовь. Каков был он, читатель, вероятно, и сам легко, как говорится в старом еврейском анекдоте, висчитает. Все-таки уточним: он был начфин одной летной части, стоявшей под Оренбургом, в Тоцком, и частенько наведывался в Куйбышев по делам, не упуская за делом и личной жизни. Что до него, он не должен быть и не будет предметом нашего узкоспециального интереса. Нужно только знать о нем то, что совмещал начфин — единственно в своем роде — все достоинства ловкого финансиста с легкой удалью летчика; фамилия его была Ромадин, а ради любви своей он мог даже с опасностью для карьеры использовать служебный самолет в личных целях: велеть прокатить Надежду, куда она попросит. Но удача любила его, ни разу еще не поплатился он за свои фокусы — в те-то времена — даже сутками на «губе»; даже сдачу ему сдавали исключительно хрустящими бумажками и новенькой, еще жирной на ощупь мелочью. Теперь нетрудно будет понять, что позвало Надежду Петровну на новые подвиги любви с той роковой силой, с какой… ну, хотя бы Федю Протасова влекло к тому, чтобы стать живым трупом.

Автор этого рассказа — молодой писатель, начавший печататься, к сожалению, не в нашей стране, в в парижском журнале «Континент», и то под псевдонимом. В СССР впервые опубликовался в декабре 1990 года в журнале «Знамя»: повесть «Огоньки на той стороне». Рассказ «Няня Маня» — вторая его публикация на Родине и, надеемся, в «Семье» не последняя.Газета "Семья" 1991 год № 16.
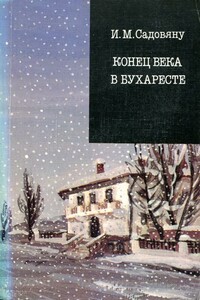
Роман «Конец века в Бухаресте» румынского писателя и общественного деятеля Иона Марина Садовяну (1893—1964), мастера социально-психологической прозы, повествует о жизни румынского общества в последнем десятилетии XIX века.

Начинается прозаическая книга поэта Вадима Сикорского повестью «Фигура» — произведением оригинальным, драматически напряженным, правдивым. Главная мысль романа «Швейцарец» — невозможность герметически замкнутого счастья. Цикл рассказов отличается острой сюжетностью и в то же время глубокой поэтичностью. Опыт и глаз поэта чувствуются здесь и в эмоциональной приподнятости тона, и в точности наблюдений.
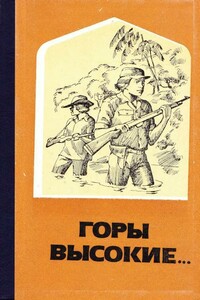
В книгу включены две повести — «Горы высокие...» никарагуанского автора Омара Кабесаса и «День из ее жизни» сальвадорского писателя Манлио Аргеты. Обе повести посвящены освободительной борьбе народов Центральной Америки против сил империализма и реакции. Живым и красочным языком авторы рисуют впечатляющие образы борцов за правое дело свободы. Книга предназначается для широкого круга читателей.
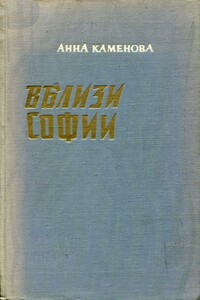
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эти дневники раскрывают сложный внутренний мир двадцатилетнего талантливого студента одного из азербайджанских государственных вузов, который, выиграв стипендию от госдепартамента США, получает возможность проучиться в американском колледже. После первого семестра он замечает, что учёба в Америке меняет его взгляды на мир, его отношение к своей стране и её людям. Теперь, вкусив красивую жизнь стипендиата и став новым человеком, он должен сделать выбор, от которого зависит его будущее.

Писатель Дмитрий Быков демонстрирует итоги своего нового литературного эксперимента, жертвой которого на этот раз становится повесть «Голубая чашка» Аркадия Гайдара. Дмитрий Быков дал в сторону, конечно, от колеи. Впрочем, жертва не должна быть в обиде. Скорее, могла бы быть даже благодарна: сделано с душой. И только для читателей «Русского пионера». Автору этих строк всегда нравился рассказ Гайдара «Голубая чашка», но ему было ужасно интересно узнать, что происходит в тот августовский день, когда герой рассказа с шестилетней дочерью Светланой отправился из дома куда глаза глядят.