Оглашенные - [5]
…она сидела на ступеньке стремянки, прислоненной к стене нашей кухни. Это была ступенька, удобная для общения: Кларин взгляд был на уровне человеческого. Она распотрошила мою сигарету, я протянул руку… Она покосилась, вздрогнула, взглянула на меня оценивающе и решила не взлетать, не дергаться – лишь слегка переступила по перекладине. Моя рука опустилась на деревяшку.
Я испытывал истошно детское чувство – так мне хотелось ее потрогать. Я вдруг понял, что ни разу в жизни не прикасался к птице. В одну секунду во мне пролетела толпа богоугодных соображений: о том, как человеку необходим зверь, что в детстве у меня не было своего зверя (детство вдруг предстало более жалким и нищим, чем было), я вспомнил единственного мышонка, который жил у меня неделю, а потом сбежал, когда я его почти научил ходить по спице (по этой же спице он и сбежал из своей стеклянной тюрьмы), я вспомнил свои пыльные колени, когда, вылезши из-под шкафа, я понял, что он сбежал навсегда… я решил, что на этот раз уж обязательно привезу дочке щенка… И, вознеся все эти молитвы, приговаривая елейно: «Клара – красавица, Клара – умница…» – прикоснулся к ее когтю. И она не тронулась с места.
– Клара – умница, Клара – красавица… – бормотал я, все смелее поглаживая ее когти, и она мало обращала на меня внимания, но позволяла. Я осторожно поднял руку, чтобы погладить ее более ощутимо, – она отпрянула, переступив, – мне предоставлялось лишь ручку целовать…
– А вы ее не по голове, а по клюву погладьте… – Доктор Д. стоял за моей спиной – как долго наблюдал он меня?
– По клюву, вы говорите?.. – засмущался я, застигнутый. – Она же тяпнет!
– Как раз нет. По клюву – не тяпнет. Она же – хищник. Хищника надо ласкать по оружию – тогда он не боится. Вот вы правильно ведь начали – когти тоже оружие.
Мысль, если она мысль, проникает в голову мгновенно, словно всегда там была, словно для нее место пустовало. Ее не надо понимать. Сомнений она не вызывает.
– Кларра – хорошая, Кларра – славная… – гладил я ее по клюву. Это была ласка значительно более существенная, чем по когтю, – ей нравилось. Она жмурилась, терлась. Вид вороны не располагает к симпатии. У вороны от природы сердитый вид. Творец не предусмотрел для нее способов проявлять радость, нежность, любовь. Ни улыбнуться, ни заурчать, ни повилять хвостом она не может. Тем трогательнее было это беспомощное усилие приветливости суровой девы… Сыр у нее уже почти выпал… И эта восхищенная мысль о Крылове, что он точен, как Лоренц, пролетела во мне, взмахнув Клариным крылом: Крылов – птичья фамилия… – и улетела. И впрямь, больше всего, казалось, Кларе нравилось: «Клара – красавица». Хотя почему она не красавица, я уже не понимал, смешно мне не было, вполне искренне говорил я: Клара – красавица. Не может быть, чтобы лесть не была сладка и самому льстецу – она бы ничего не стоила… Тут-то доктор и добавил:
– Вы помните, я вам про мораль животных рассказывал?.. Так вот, в первичную, животную, мораль человека, по-видимому, входил запрет причинять ущерб тем, кто ему доверяет… Собака… потом кошки, голуби, аисты, ласточки… все они в разной степени сблизились с человеком через эту особенность человеческой морали, без специального приручения. Заметьте, что к действительно прирученным животным – курам, свиньям, козам – человек не испытывает инстинктивной любви.
– То есть только доверие вызывает любовь? – восхитился я.
– Я так сказал?.. – усомнился доктор.
Клара, конечно, умница, но и доктор неглуп. Говорить мне такие вещи – это гладить меня по клюву. Как приятно, однако, принять в себя назад человеческое убеждение в форме научного закона! Это значит, что себе мы не верим. Нужна наука, чтобы убедить нас в том, что нам свойственно. По меньшей мере странна эта разлука человеческого и общезакономерного. Из этой трещины произрастает экология, заполняя ее.
– Хорошо, – говорю я, – мы любим тех, кто нам доверяет. Но нас в этом доверии поражает прежде всего то, что оно проявлено существом совершенно другой природы, – это нас трогает. Мы ни на минуту не забываем, что мы люди, а они – звери, сверху вниз. А они? За кого они нас считают, доверяя нам?..
– Это сложный вопрос. Я придерживаюсь той точки зрения, что, живя с нами, они нас считают другими существами, но исключают из нашего вида своего хозяина.
– А его-то они за кого считают?
– Наверно, за вожака своего вида.
– Так что же, – возмутился я, – они не видят, что ли? Клара что же, меня сейчас за ворону считает?.. – Я взмахнул руками, как крыльями, и Клара сердито шарахнулась. Я тут же спохватился и попробовал снова погладить по клюву – она отвернулась. Словно обиделась.
– Вас, конечно, нет. А вот Валерьяна Иннокентьевича она, вполне возможно, и считает вороной.
– Мужчиной-вороной?
– Это безусловно, – сказал доктор, – именно самцом.
– Ну уж извините… – усмехнулся я. – Не может же природа быть настолько слепа! Какой же он муж… то есть, простите, ворона?
– А вот представьте себе… – говорил доктор…
Мы удалялись, пререкаясь, в дюны.
(Клара погибла, но не от кошки. Ее заклевали во2роны. Но не воро2ны, а во2роны. За разницу в ударении.)
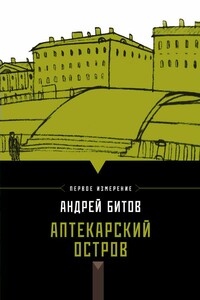
«Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь», — написал автор в 1960 году, а в 1996 году осознал, что эта книга уже написана, и она сложилась в «Империю в четырех измерениях». Каждое «измерение» — самостоятельная книга, но вместе они — цепь из двенадцати звеньев (по три текста в каждом томе). Связаны они не только автором, но временем и местом: «Первое измерение» это 1960-е годы, «Второе» — 1970-е, «Третье» — 1980-е, «Четвертое» — 1990-е.Первое измерение — «Аптекарский остров» дань малой родине писателя, Аптекарскому острову в Петербурге, именно отсюда он отсчитывает свои первые воспоминания, от первой блокадной зимы.«Аптекарский остров» — это одноименный цикл рассказов; «Дачная местность (Дубль)» — сложное целое: текст и рефлексия по поводу его написания; роман «Улетающий Монахов», герой которого проходит всю «эпопею мужских сезонов» — от мальчика до мужа.
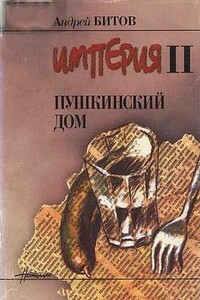
Роман «Пушкинский дом» критики называют «эпохальной книгой», классикой русской литературы XX века. Законченный в 1971-м, он впервые увидел свет лишь в 1978-м — да и то не на родине писателя, а в США.А к российскому читателю впервые пришел только в 1989 году. И сразу стал культовой книгой целого поколения.
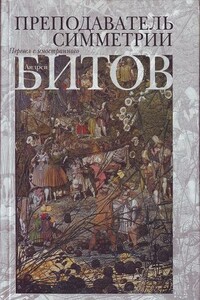
Новый роман Андрея Битова состоит из нескольких глав, каждая из которых может быть прочитана как отдельное произведение. Эти тексты написал неизвестный иностранный автор Э. Тайрд-Боффин о еще менее известном авторе Урбино Ваноски, а Битов, воспроизводя по памяти давно потерянную книгу, просто «перевел ее как переводную картинку».Сам Битов считает: «Читатель волен отдать предпочтение тому или иному рассказу, но если он осилит все подряд и расслышит эхо, распространяющееся от предыдущему к следующему и от каждого к каждому, то он обнаружит и источник его, то есть прочтет и сам роман, а не набор историй».

В «Нулевой том» вошли ранние, первые произведения Андрея Битова: повести «Одна страна» и «Путешествие к другу детства», рассказы (от коротких, времен Литературного объединения Ленинградского горного института, что посещал автор, до первого самостоятельного сборника), первый роман «Он – это я» и первые стихи.

«Империя в четырех измерениях» – это книга об «Империи», которой больше нет ни на одной карте. Андрей Битов путешествовал по провинциям СССР в поиске новых пространств и культур: Армения, Грузия, Башкирия, Узбекистан… Повести «Колесо», «Наш человек в Хиве, или Обоснованная ревность» и циклы «Уроки Армении», «Выбор натуры. Грузинской альбом» – это история народов, история веры и войн, это и современные автору события, ставшие теперь историей Империи.«Я вглядывался в кривую финскую березку, вмерзшую в болото родного Токсова, чтобы вызвать в себе опьянение весенним грузинским городком Сигнахи; и топтал альпийские луга, чтобы утолить тоску по тому же болоту в Токсове».

«Пушкинский том» писался на протяжении всего творческого пути Андрея Битова и состоит из трех частей.Первая – «Вычитание зайца. 1825» – представляет собой одну и ту же историю (анекдот) из жизни Александра Сергеевича, изложенную в семи доступных автору жанрах. Вторая – «Мания последования» – воображаемые диалоги поэта с его современниками. Третья – «Моление о чаше» – триптих о последнем годе жизни поэта.Приложением служит «Лексикон», состоящий из эссе-вариаций по всей канве пушкинского пути.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.

Есть такая избитая уже фраза «блюз простого человека», но тем не менее, придётся ее повторить. Книга 40 000 – это и есть тот самый блюз. Без претензии на духовные раскопки или поколенческую трагедию. Но именно этим книга и интересна – нахождением важного и в простых вещах, в повседневности, которая оказывается отнюдь не всепожирающей бытовухой, а жизнью, в которой есть место для радости.

«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.
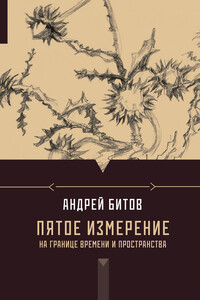
«Пятое измерение» – единство текстов, написанных в разное время, в разных местах и по разным поводам (круглые даты или выход редкой книги, интервью или дискуссия), а зачастую и без видимого, внешнего повода. События и персоны, автор и читатель замкнуты в едином пространстве – памяти, даже когда речь идет о современниках. «Литература оказалась знанием более древним, чем наука», – утверждает Андрей Битов.Требования Андрея Битова к эссеистике те же, что и к художественной прозе (от «Молчания слова» (1971) до «Музы прозы» (2013)).