Огарки - [2]
Павлиха, пожилая, с морщинистым добрым лицом, одетая по-деревенски, стояла у печки и тоже смеялась вместе со всеми.
Рассказы Толстого слушали кузнец Сокол, Новгородец и Пискра.
Кузнец был в синей рабочей блузе, смуглый, с коротко подстриженной черной бородой, черными глазами, с густыми черными волосами. Весь черный — он смахивал на тягана. Облокотись на стол большими загорелыми руками, Сокол грубо хохотал, и ровные белые зубы его сверкали.
Новгородец — тщедушный, бледный, тонконогий и тонкогрудый, типичный разночинец — был тоже в синей блузе, подпоясанной ремнем от чемодана, но блуза не шла к его нервному лицу с клинышком рыжей прямой бороды. Голова его, остриженная наголо, поражала несоразмерной величиной.
Он запрокидывал эту необыкновенную голову назад и, потрясая бородой, хохотал резким смехом.
У Пискры было большое, крупное лицо с громадным носом, с густыми и широкими рыжими усами, с твердо очерченным, выдающимся вперед, бритым подбородком — настоящее австрийское лицо, невыразительное, но упрямое, узко-энергичное… Многое, вероятно, пережил австрийский дезертир в России, прежде чем попал в компанию огарков. Он смеялся сдержанно, плохо понимая соль русского языка.
Перед всей этой компанией расхаживал по комнате и говорил Илья Толстый — импозантная фигура.
Он был очень большого роста, широкий, полный, белый — великолепный экземпляр севера. Молодое прекрасное лицо его, гладко выбритое, как у актера, выражало гордость, смелость и юмор. Голубые глаза искрились весельем. Красивая большая голова его была гладко выбрита, как у турка или запорожца, а на широкий, просторный череп туго натянута мягкая красная феска с густой длинной кистью. Костюм его состоял из белой ночной рубашки, заправленной в широчайшие штаны табачного цвета. На босых ногах шлепали опорки от сапог. В руке дымилась трубка с полуаршинным черешневым чубуком.
Огарки ржали…
— …Сами виноваты! — смеясь, говорила Павлиха. — Рази можно полицейских бить?
Толстый повернулся к ней, ловко расшаркался и галантно произнес приятным тенором:
— Достохвальная Прасковь Палка! Уверяю вас, мы их не били, мы только загнули им сак-са-у-ла!
— Хо-хо-хо! — грянули огарки.
— Правда, перед тем мы порезвились немножко в пивной у Капитошки…
— Хо-хо-хо!
— Устроили на лужайке детский крик…
— Хо-хо-хо!
— Выпили — средне!..
— Хо-хо-хо!
— В голове у нас был медведь…
— Хо-хо-хо!
— Ну и попали в префектуру!
— Хо-хо-хо!
Компания покатывалась со смеху над каждым из его словечек.
— Да уж я знаю вас! — возразила старуха. — У вас все средне!..
— А околоточного мы, действительно, оскорбили…
— Чем?
— Да я ему сказал: Иудой бы тебя, гнусная личность, нарисовать на картине Страшного суда.
— Хо-хо-хо!
— А когда мировой в оскорблении околоточного виновными нас не признал, я обернулся к свидетелям — полицейским и сказал: «Что? Взяли? Лже-сви-де-тели!»
— Хо-хо-хо!
— Началось-то все с того, что схватились мы по части выпивки с какими-то интендантскими чиновниками. Переведались. Выпили средне. Сашка-то с чиновником побратались и шинелями поменялись: тот надел его студенческую, а этот интендантскую, и пошли с гармоникой. Боролись еще они на поясах — так Сашка как был подпоясан поверх шинели полотенцем, так и остался. А в префектуре долго не могли установить его личность: «Кто такой?» — Студент Академии. Смотрят: фуражка студенческая, шинель интендантская, морда арестантская, подпоясан полотенцем и гармония в руках.
— Хо-хо-хо!
— На сколько присудили, Илюша, в кутузку-то? — сердобольно спросила Павлиха.
Толстый выразил на своем подвижном лице трагизм и принял театральную позу.
— На двое суток, мать! На двое суток за нарушение общественной тишины-с! Завтра обоих нас поведут в префектуру!
— Хо-хо-хо!
— Ах вы несчастные! — причитала старуха, качая головой. — Прямые огарки!
За дверями, на лестнице, ухарски рявкнула в чьих-то умелых руках хорошая «саратовская» гармонь, и на пороге показалась фигура в казинетовом «пеньжаке», сапогах бутылкой, в ситцевой рубахе, выпущенной из-под жилета, и старой, выцветшей студенческой фуражке, сдвинутой на затылок. Молодое улыбающееся лицо его, с густыми белыми усами и эспаньолкой под нижней губой, было полно того веселого задора, какой бывает у загулявших мастеровых.
Фигура, пошатываясь, ввалилась, оглушительно растянула мехи гармони и запела:
— Санька! не безобразь! — крикнула на него старуха.
Огарки смеялись.
Санька шумно сомкнул гармонию, поставил ее у порога и, ударив себя в грудь, сорвал с головы фуражку, склонил голову и воскликнул, обращаясь к хозяйке:
— Мать! осужден! прости!
Он совсем не был пьян, но куражился.
Его лицо, костюм и манеры — все обличало в нем плебейское воспитание, и почти ничто не говорило о студенте, кроме разве умных глаз, которые как бы смеялись над ним самим, над его ломаньем и куражем, но куражу этому он отдавался все-таки с видным удовольствием.
Он повернулся к товарищам, и озорной взгляд его почему-то упал на Новгородца.
— Эй, Новгородец! — возопил Сашка, уперев руки в бока. — Толстоголовый черт! Такали-такали, да Новгород-то и протакали. Дьяволы! А?

Имя Скитальца в истории отечественной литературы неразрывно связано с эпохой первой русской революции 1905–1907 гг. Именно на гребне революционной волны в литературу той поры при поддержке М. Горького вошла целая плеяда талантливых писателей: Л. Андреев, Скиталец, И. Бунин, А. Куприн, А. Серафимович, В. Вересаев и др.Сложным и нелегким был творческий путь Скитальца (литературный псевдоним Степана Гавриловича Петрова, 1869–1941 гг.). Немало на его долю выпало житейских скитаний, творческих взлетов и падений.
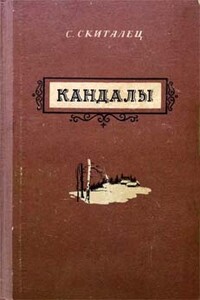
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник произведений писателя-символиста Георгия Чулкова (1879–1939) вошли новеллы «Сестра», «Морская Царевна», «Подсолнухи», «Омут», «Судьба» и «Голос из могилы».

Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается terra incognita — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее именитых авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении. Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел.

Научно-фантастический роман «Наследники», созданный известным в эмиграции писателем В. Я. Ирецким (1882–1936) — это и история невероятной попытки изменить течение Гольфстрима, и драматическое повествование о жизни многих поколений датской семьи, прошедшей под знаком одержимости Гольфстримом и «роковых страстей». Роман «Наследники», переиздающийся впервые, продолжает в серии «Polaris» ряд публикаций фантастических и приключенческих произведений писателей русской эмиграции. Издание дополнено рецензиями П.
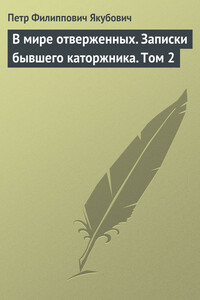
«…Следует прежде всего твердо помнить, что не безнравственность вообще, не порочность или жестокость приводят людей в тюрьму и каторгу, а лишь определенные и вполне доказанные нарушения существующих в стране законов. Однако всем нам известно (и профессору тем более), что, например, пятьдесят лет назад, во времена «Записок из Мертвого Дома», в России существовал закон, по которому один человек владел другим как вещью, как скотом, и нарушение последним этого закона нередко влекло за собой ссылку в Сибирь и даже каторжные работы.
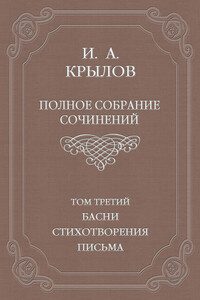
Настоящее издание Полного собрания сочинений великого русского писателя-баснописца Ивана Андреевича Крылова осуществляется по постановлению Совета Народных Комиссаров СССР от 15 июля 1944 г. При жизни И.А. Крылова собрания его сочинений не издавалось. Многие прозаические произведения, пьесы и стихотворения оставались затерянными в периодических изданиях конца XVIII века. Многократно печатались лишь сборники его басен. Было предпринято несколько попыток издать Полное собрание сочинений, однако достигнуть этой полноты не удавалось в силу ряда причин.Настоящее собрание сочинений Крылова включает все его художественные произведения, переводы и письма.
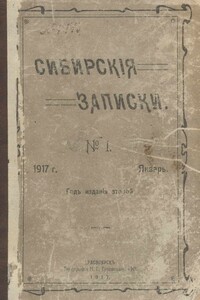
Рассказ о случайном столкновении зимой 1906 года в маленьком сибирском городке двух юношей-подпольщиков с офицером из свиты генерала – начальника карательной экспедиции.Журнал «Сибирские записки», I, 1917 г.