Одиночная командировка - [7]
Небольшая – опять же рядом с другими – изба, с простыми белыми – в сумерках голубыми – наличниками, светилась теплыми задумчивыми глазами маленьких, обведенных снизу волнистой снежной каймой до половины занавешенных окон. У вросшей в сугроб конуры встрепенулся лохматый пес – что-то буркнул, как в бочку, и потрусил к Николаю, разматывая зарокотавшую тяжелыми звеньями цепь. Николай вынул руку из кармана – он был без перчаток – и помял висячее ухо размером с клапан ушанки. – Шарик… – Шарик был величиною с медведя – даже с белого, пожалуй, медведя – и внешне спокоен и незлобив, как сонный щенок. На меня он даже не посмотрел.
Построек на дворе было мало – в отличие от соседей, у которых (я плохо разбираюсь в надворной архитектуре) громоздились целые амбары, иные не меньше самой избы. У Коли же по периметру двора были разбросаны несколько некрашеных дощатых коробочек: по моим представлениям, в такой коробочке могла разместиться только уборная – или курятник. Справа вдоль уличного забора тянулся неширокий длинный навес, сколоченный из неошкуренного горбыля, под которым – мозаикой светлых торцов – до высоты человеческого роста лежали штабелем наколотые дрова. Было очень тихо, только снег, срываясь с края целика на тропу, сухо поскрипывал под ногами. Это было похоже на сказку – добрую, неторопливую, без разбойников и чудовищ – и в то же время немного печальную – сказку. Я вдруг вспомнил картинку детства: расписная избушка, укрытая волнистым сугробом, и перед ней, в малиновых сапогах, расхаживает многоцветный петух… Николай открыл невысокую дверь под живописно сосульчатым козырьком и ступил на порог. Конечно, он просто не знал, что гостя пропустить следует первым.
Я шагнул в полутемную, пахнувшую домашним теплом прихожую – непривычно подумалось: «Сени…» Справа уютно оранжевел прямоугольник открытой двери, в нем ослепительно белела оборчатая занавеска на видимой черно-синей половине окна. Николай щелкнул выключателем – прямоугольник поблек, осветилась маленькая прихожая, завешанная по стенам каким-то длинным и плотным – показалось, тряпьем. Из сеней, кроме открытой, выходили еще две закрытые двери – крашенные когда-то белой, а сейчас матово пожелтевшею краской, в облупившихся стрельчатыми островками наличниках… В комнате справа певуче скрипнула половица – и на пороге появилась невысокая полная женщина лет сорока пяти, с уже расплывающимися, но в молодости, наверное, очень приятными чертами круглого приветливого лица (о котором наши писатели-деревенщики, убежден, написали бы хором: «неяркая северная красота…»). В сущности, я плохо помню ее лицо – прошло много лет, да и не в том я был возрасте, чтобы внимательно разглядывать и тем более запоминать сорокапятилетних женщин; хорошо помню узел ее прически – стеклянно блестящих, почти бесцветных, как будто прозрачных волос (наверное, это были настоящие белые волосы, рано осветленные сединой), а узел тот запомнился мне потому, что был собран из множества тонких косичек: по-моему, такие узлы я видел у женщин на старых – довоенного времени – фотографиях… Еще я помню ее глаза – глаза, чтобы не нагромождать лишних слов, были святыми: добрыми и усталыми. Николай повернулся ко мне и отступил на шаг – наверное, так в его понимании должно было выглядеть представление.
– Мама, это товарищ из Москвы («из Москвы» он подчеркнул), Владимир…
– Володя, – поспешил я, потому что мне показалось – он вспоминает отчество, – и наклонил голову.
– А это моя мама, Антонина Федосеевна.
– Очень рада, – сказала женщина – и видно было, что она действительно рада, – и протянула мне маленькую худощавую (а сама была полной) руку. Я неловко – непривычно – ее пожал – и почувствовал шероховатость ладони. – Раздевайтесь, пожалуйста.
Я снял полушубок и повесил его поверх чего-то крупно простеганного и выгоревшего рыжими пятнами – мне подумалось, «зипуна»… Колина мать ушла в комнату, где судя по стеклянному стуку посуды, накрывала на стол. Николай открыл левую дверь и махнул мне тонкой рукой:
– Пойдем пока ко мне… в мою комнату.
Я вошел следом за ним. Комната была невелика, метров десять, не больше; в ней стояла кровать, железная, с облезающим никелем, письменный стол старомодного казенного образца (подумалось: списанный с химкомбината), над столом – единственная короткая полка с книгами, наполовину из учебников по химической технологии, наполовину из художественной литературы с блеклыми тряпочными корешками – наверное, местных издательств: я мельком увидел фамилии Дюма, Аркадия Адамова, Жюля Верна, почему-то Диккенса, толстый красно-коричневый том «Воспоминаний о В.И. Ленине»… На столе, покрытом исцарапанным до молочной белизны оргстеклом, стояла старая настольная лампа из черной пластмассы (такими до сих пользуются московские часовщики) с треснувшей стойкой, замотанной изоляцией синего цвета, и магнитофон «Электроника», накрытый от пыли салфеткой. Штор не было; окно закрывали до половины гладкие белые занавески; над ними уже дегтярно чернела ночь. В головах кровати – застеленной темно-серым с одинокой фиолетовой полосой, похожим на солдатское, одеялом – висел маленький шкафчик с застекленными дверцами; такие в Москве продаются для ванных комнат, но этот был деревянным и выглядел лет на пятьдесят старше меня. За стеклом стояли рядами коробки и пачки сигарет… я не оговорился – именно пачки, и не только сигарет: в Москве многие собирают коробки, у Лапшина их было около ста, из них три четверти иностранные, – здесь же стояли и «Прима», и «Беломор» (по несколько внешне почти одинаковых пачек тех и других – наверное, разных фабрик), и уже исчезнувшие в Москве «Волна» и «Прибой», и какие-то папиросы «Шахтерские» – на них вообще (впрочем, лампочка в зеленом абажуре была не сильна) непонятно что было изображено – какие-то тусклые кремовые разводы… были и коробки – я насчитал их штук семь: «Ява», «Друг», «Столичные», «Российские»… кажется, «Каравелла» и «БТ» – и неожиданно «Мальборо»: «Мальборо» стояла в особицу, на центральном месте в ряду, отделенная от соседей просветами… У меня отчегото защемило в груди; Коля поймал мой взгляд и чуть смущенно (в первый раз, вообще он держался не то чтобы с достоинством, а удивительно просто) сказал:
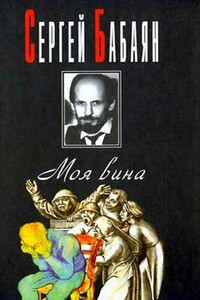
«Тема сельской свадьбы достаточно традиционна, сюжетный ход частично подсказан популярной строчкой Высоцкого „затем поймали жениха и долго били“, а все равно при чтении остается впечатление и эстетической, и психологической новизны и свежести. Здесь яркая, многоликая (а присмотришься – так все на одно лицо) деревенская свадьба предстает как какая-то гигантская стихийная сила, как один буйный живой организм. И все же в этих „краснолицых“ (от пьянства) есть свое очарование, и автор пишет о них с тщательно скрываемой, но любовью.
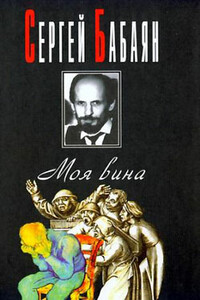
«Моя вина» – сборник «малой прозы» о наших современниках. Её жанр автор определяет как «сентиментальные повести и рассказы, написанные для людей, не утративших сердца в наше бессердечное время».

«Моя вина» – сборник «малой прозы» о наших современниках. Её жанр автор определяет как «сентиментальные повести и рассказы, написанные для людей, не утративших сердца в наше бессердечное время».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сергей БАБАЯН — родился в 1958 г. в Москве. Окончил Московский авиационный институт. Писать начал в 1987 г. Автор романов “Господа офицеры” (1994), “Ротмистр Неженцев” (1995), повестей “Сто семьдесят третий”, “Крымская осень”, “Мамаево побоище”, “Канон отца Михаила”, “Кружка пива” (“Континент” №№ 85, 87, 92, 101, 104), сборника прозы “Моя вина”(1996). За повесть “Без возврата (Негерой нашего времени)”, напечатанную в “Континенте” (№ 108), удостоен в 2002 г. премии имени Ивана Петровича Белкина (“Повести Белкина”), которая присуждается за лучшую русскую повесть года.

«Моя вина» – сборник «малой прозы» о наших современниках. Её жанр автор определяет как «сентиментальные повести и рассказы, написанные для людей, не утративших сердца в наше бессердечное время».

Книгу, которую вы держите в руках, вполне можно отнести ко многим жанрам. Это и мемуары, причем достаточно редкая их разновидность – с окраины советской страны 70-х годов XX столетия, из столицы Таджикской ССР. С другой стороны, это пронзительные и изящные рассказы о животных – обитателях душанбинского зоопарка, их нравах и судьбах. С третьей – раздумья русского интеллигента, полные трепетного отношения к окружающему нас миру. И наконец – это просто очень интересное и увлекательное чтение, от которого не смогут оторваться ни взрослые, ни дети.
![Воровская яма [Cборник]](/storage/book-covers/08/086ec5131cfee1e9284b895205abfa019c8ddf36.jpg)
Книга состоит из сюжетов, вырванных из жизни. Социальное напряжение всегда является детонатором для всякого рода авантюр, драм и похождений людей, нечистых на руку, готовых во имя обогащения переступить закон, пренебречь собственным достоинством и даже из корыстных побуждений продать родину. Все это есть в предлагаемой книге, которая не только анализирует социальное и духовное положение современной России, но и в ряде случаев четко обозначает выходы из тех коллизий, которые освещены талантливым пером известного московского писателя.

Эти дневники раскрывают сложный внутренний мир двадцатилетнего талантливого студента одного из азербайджанских государственных вузов, который, выиграв стипендию от госдепартамента США, получает возможность проучиться в американском колледже. После первого семестра он замечает, что учёба в Америке меняет его взгляды на мир, его отношение к своей стране и её людям. Теперь, вкусив красивую жизнь стипендиата и став новым человеком, он должен сделать выбор, от которого зависит его будущее.

Оксана – серая мышка. На работе все на ней ездят, а личной жизни просто нет. Последней каплей становится жестокий розыгрыш коллег. И Ксюша решает: все, хватит. Пора менять себя и свою жизнь… («Яичница на утюге») Мама с детства внушала Насте, что мужчина в жизни женщины – только временная обуза, а счастливых браков не бывает. Но верить в это девушка не хотела. Она мечтала о семье, любящем муже, о детях. На одном из тренингов Настя создает коллаж, визуализацию «Солнечного свидания». И он начинает работать… («Коллаж желаний») Также в сборник вошли другие рассказы автора.

Тревожные тексты автора, собранные воедино, которые есть, но которые постоянно уходили на седьмой план.

Судьба – удивительная вещь. Она тянет невидимую нить с первого дня нашей жизни, и ты никогда не знаешь, как, где, когда и при каких обстоятельствах она переплетается с другими. Саша живет в детском доме и мечтает о полноценной семье. Миша – маленький сын преуспевающего коммерсанта, и его, по сути, воспитывает нянька, а родителей он видит от случая к случаю. Костя – самый обыкновенный мальчишка, которого ребяческое безрассудство и бесстрашие довели до инвалидности. Каждый из этих ребят – это одна из множества нитей судьбы, которые рано или поздно сплетутся в тугой клубок и больше никогда не смогут распутаться. «История Мертвеца Тони» – это книга о детских мечтах и страхах, об одиночестве и дружбе, о любви и ненависти.