Один человек - [12]
Хорошо, когда храм сельский. Над ним только облака и стрижи. И ещё жаворонок. А от церковного крыльца распутывается в тридевятое царство длинный пыльный просёлок с разноцветными песнями кузнечиков, сонными коровами и такой печальной козой, что ей хочется сказать: «Да что ты, в самом деле. Не он у тебя первый, не ты у себя последняя. Всё образуется. Он ещё вернётся, вот увидишь. Он просто… Тебе ли не знать».
Перед сном, обычно за полночь, выхожу на балкон покурить. Как ни взгляну на небо — самолёт летит. То красным огоньком мигнет, то зелёным. И летит. Вдоль хвоста Большой Медведицы. Куда-то ей в жопу и дальше, дальше… И так каждый вечер. Или он одноразовый, или успевает днём вернуться, пока я на работе. Не то чтобы я был против, нет. Но как-то… утомляет постоянство. Ни в чём хорошем постоянства нет. Только оно начнётся, это хорошее, так сразу и… Или мы его сами. Не дожидаясь. «Мы счастье сжать хотим, а можем лишь сломать», как сказал всё равно кто. А в такой ерунде, как полет в жопу, хоть и Большой Медведицы — это пожалуйста. Постоянства сколько душе угодно. Ей не угодно! Её с самой себя воротит. Но кто её об этом спрашивает. И ты стоишь, как последний идиот, с полными горстями обломков этого счастья, и острые его края тебе уже все ладони в кровь изрезали, а ты все сжимаешь, сжимаешь… А самолёт летит. И окурок уже обжигает пальцы. Пора идти спать. Завтра ночью будет то же самое.
Луна сегодня «ломтём чарджуйской дыни». А вот пения цикад не слышно. Иногда, конечно, поют трубы с холодной водой или соседка сверху кроет своего мужа последним оставшимся после его зарплаты словом, а так — тихо. Никаких цикад. Под окном, правда, горланит какой-то алкаш. «Верно, эта цикада пением вся изошла — одна скорлупка осталась», — как писал классик японской поэзии. Я себе представляю, что за скорлупка останется от этого скарабея, если он весь изойдёт тем, чем полон. Впрочем, это японская традиция — петь на луну. У нас всё больше воют.
Сегодня целый день бабье лето. Наверное, бывает время года и нежнее, но я не встречал. Нет, ранняя весна тоже нежная, но она ещё ничего не понимает, эта весна. Глупая и молодая. А бабье лето понимает даже то, что ты и сам от себя скрываешь. И сказал «до завтра», и поцеловал её неловко в щёку так, что получилось в шею, и нос щекотнул какой-то завиток, и не удержался, чихнул, и рукой махнул «пока-пока», и пошёл прочь быстрее и быстрее. И никогда ни ей, ни себе не признаешься, что… Не признавайся. На то оно и бабье лето, чтобы без слов. Вот как прозрачный жёлтый лист летит, летит и не падает из последних сил потому, что хочет взлететь.
И в этом году всё, как и в прошлом, — не успели оглянуться, а уже осень, и самая её середина. А кто успел оглянуться — тот, поди, жалеет об этом. Закрылись на зиму и спрятались под одеждой улыбчивые девичьи пупки, а утренний иней и сны не тают до второй чашки кофе, а то и до самого обеда. Давным-давно, когда дети ходили в начальную школу, я учил с ними стихотворение Бальмонта. Не то, конечно, где упиться роскошным телом и вить венки из сочных груоздей, а то, где поспевает брусника и стали дни холоднее. Дети, наверное, позабыли. Это понятно — в школе стихи учат для того, чтобы забыть, а не запомнить. А вот за меня оно зацепилось почему-то. Я вообще много стихов выучил из школьной программы к своим сорока с лишним годам. Как начал лет в тридцать их запоминать, так и не останавливался. Доведись мне сейчас попасть в третий или даже девятый класс — я б им наизусть такое… Но это если не оглядываться. А как оглянешься — так и увидишь, что уже осень. Самая её середина.
Я родился под знаком весов. Химики часто рождаются под весами. Вот как часовщики под часами или монтёры под монтировкой. Правда, знавал я одного химика, который родился под знаком перегонного куба. Ну, он вообще был алкоголик сантехник. От них можно чего угодно ожидать. Но я не о сантехниках. Я о весах, которые всегда выбор. Мучительный. Сегодня шёл обедать и встал на развилке двух аллей. Одна из голых, в редких, уже фиговых, листках клёнов, а другая из голых жо же, раздетых ветром до последней нитки и иголки, лиственниц. Первая вся стендальная — чёрный мокрый асфальт, усыпанный красными листьями, а вторая — жёлтая и пушистая, как отцвели уж давно хризантемы в саду. Стою и думаю — по какой аллее приятнее пройти. С одной стороны — на то и осень, чтобы листьями шуршать. А от иголок какие шуршики? От иголок — иголики. С другой стороны — присмотрелся повнимательнее и увидел, как на ледяном ветру косые солнечные лучи превращаются в золотистые рыжие иголки и падают, падают на землю. Как не пройтись по солнечным иголкам? Я еще немного постоял и повыбирал. Из носа проползавшей по небу тучки стало накрапывать. Из ног стала уходить правда. И тут по кленовой аллее прошла девушка, в обтягивающих кожаных штанах и такой же куртке. Я вдруг вспомнил, что проголодался. И немедленно пошел вслед за девушкой на обед.
Вчерашний день был дома, в деревне. По пути на почту видел, как детский сад шёл на прогулку. В шумную и разноцветную колонну по два. В деревне не то что в городе, где дети передвигаются короткими судорожными перебежками от светофора к светофору — у нас можно идти медленно, сшибая одуванчики по обочинам, считая облака, ворон, и ещё везти за собой самосвал на верёвочке. Воспитательница бегала вдоль колонны и кричала: «Обходим лужу! Обходим!» А как её обойти, если она сама идёт тебе навстречу и приветливо блестит? Как её обойти, если твой самосвал только что верёвку не рвёт — так ему хочется проехаться по этой луже. И потом можно долго смотреть на мокрые следы от его колёс на асфальте… И на свои, конечно, следы. За которые потом ещё достанется от воспитательницы.
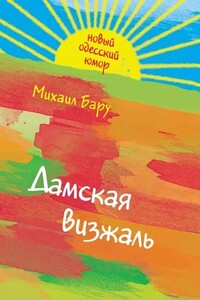
Перед вами неожиданная книга. Уж, казалось бы, с какими только жанрами литературного юмора вы в нашей серии не сталкивались! Рассказы, стихи, миниатюры… Практически все это есть и в книге Михаила Бару. Но при этом — исключительно свое, личное, ни на что не похожее. Тексты Бару удивительно изящны. И, главное, невероятно свежи. Причем свежи не только в смысле новизны стиля. Но и в том воздействии, которое они на тебя оказывают, в том легком интеллектуальном сквознячке, на котором, читая его прозу и стихи, ты вдруг себя с удовольствием обнаруживаешь… Совершенно непередаваемое ощущение! Можете убедиться…

Кувшиново, Солигалич, Пестяки, Осташков, Грязовец, Красные Баки… Для Михаила Бару путешествия по медвежьим углам Московской, Ивановской, Вологодской, Тверской, Ярославской, Нижегородской и Костромской областей – не только исследование противоречивой истории России, но и возможность увидеть сложившийся за пределами столиц образ нашей страны, где за покосившимся настоящим отчетливо видны следы прошлого. Возможность свободного перехода между временами делает это пространство почти сказочным, и автор-путешественник увлеченно ведет хронику метаморфоз, которые то и дело происходят не только с жителями этих мест, но и с ним самим.

Внимательному взгляду «понаехавшего» Михаила Бару видно во много раз больше, чем замыленному глазу взмыленного москвича, и, воплощенные в остроумные, ироничные зарисовки, наблюдения Бару открывают нам Москву с таких ракурсов, о которых мы, привыкшие к этому городу и незамечающие его, не могли даже подозревать. Родившимся, приехавшим навсегда или же просто навещающим столицу посвящается и рекомендуется.

Эта книга о русской провинции. О той, в которую редко возят туристов или не возят их совсем. О путешествиях в маленькие и очень маленькие города с малознакомыми или вовсе незнакомыми названиями вроде Южи или Васильсурска, Солигалича или Горбатова. У каждого города своя неповторимая и захватывающая история с уникальными людьми, тайнами, летописями и подземными ходами.

Любить нашу родину по-настоящему, при этом проживая в самой ее середине (чтоб не сказать — глубине), — дело непростое, написала как-то Галина Юзефович об авторе, чью книгу вы держите сейчас в руках. И с каждым годом и с каждой изданной книгой эта мысль делается все более верной и — грустной?.. Михаил Бару родился в 1958 году, окончил МХТИ, работал в Пущино, защитил диссертацию и, несмотря на растущую популярность и убедительные тиражи, продолжает работать по специальности, любя химию, да и не слишком доверяя писательству как ремеслу, способному прокормить в наших пенатах. Если про Клода Моне можно сказать, что он пишет свет, про Михаила Бару можно сказать, что он пишет — тишину.

Стилистически восходящие к японским хокку и танка поэтические миниатюры давно получили широкое распространение в России, но из пишущих в этой манере авторов мало кто имеет успех, сопоставимый с Михаилом Бару из Подмосковья. Его блистательные трех– и пятистишья складываются в исполненный любви к людям, природе, жизни лирический дневник, увлекательный и самоироничный.

Прошлое всегда преследует нас, хотим мы этого или нет, бывает, когда-то давно мы совершили такое, что не хочется вспоминать, но все с легкостью оживает в нашей памяти, стоит только вернуться туда, где все произошло, и тогда другое — выхода нет, как встретиться лицом к лицу с неизбежным.

В жизни каждого человека встречаются люди, которые навсегда оставляют отпечаток в его памяти своими поступками, и о них хочется написать. Одни становятся друзьями, другие просто знакомыми. А если ты еще половину жизни отдал Флоту, то тебе она будет близка и понятна. Эта книга о таких людях и о забавных случаях, произошедших с ними. Да и сам автор расскажет о своих приключениях. Вся книга основана на реальных событиях. Имена и фамилии действующих героев изменены.

За что вы любите лето? Не спешите, подумайте! Если уже промелькнуло несколько картинок, значит, пора вам познакомиться с данной книгой. Это история одного лета, в которой есть жизнь, есть выбор, соленый воздух, вино и море. Боль отношений, превратившихся в искреннюю неподдельную любовь. Честность людей, не стесняющихся правды собственной жизни. И алкоголь, придающий легкости каждому дню. Хотите знать, как прощаются с летом те, кто безумно влюблен в него?
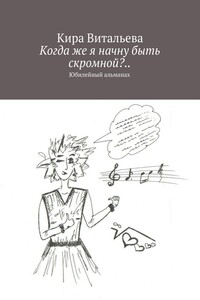
Альманах включает в себя произведения, которые по той или иной причине дороги их создателю. Это результат творчества за последние несколько лет. Книга создана к юбилею автора.

Помните ли вы свой предыдущий год? Как сильно он изменил ваш мир? И могут ли 365 дней разрушить все ваши планы на жизнь? В сборнике «Отчаянный марафон» главный герой Максим Маркин переживает год, который кардинально изменит его взгляды на жизнь, любовь, смерть и дружбу. Восемь самобытных рассказов, связанных между собой не только течением времени, но и неподдельными эмоциями. Каждая история привлекает своей откровенностью, показывая иной взгляд на жизненные ситуации.

Действие романа классика нидерландской литературы В. Ф. Херманса (1921–1995) происходит в мае 1940 г., в первые дни после нападения гитлеровской Германии на Нидерланды. Главный герой – прокурор, его мать – знаменитая оперная певица, брат – художник. С нападением Германии их прежней богемной жизни приходит конец. На совести героя преступление: нечаянное убийство еврейской девочки, бежавшей из Германии и вынужденной скрываться. Благодаря детективной подоплеке книга отличается напряженностью действия, сочетающейся с философскими раздумьями автора.