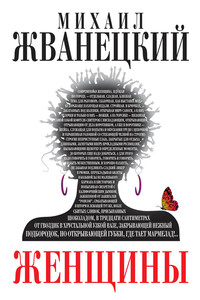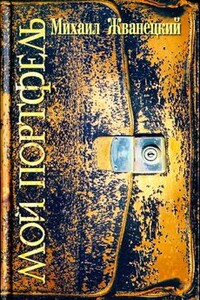Ты наказал меня ленью, от которой смрадно разлагается нутро.
Жадностью, отчего непослушны руки.
И слабостью.
И сомнениями.
И недовольством.
И пороком.
И выделением дурного в человеке.
Разве снимаю грех, перенося его на бумагу?
Дай понять, что делаю.
Дай силу принять оценку.
Если кому-то нравится предмет несдержанности – речи мои, есть ли тут радость мне?
Дни летят…
Гонишь меня.
Суди сам.
Верю в легкость, с которой…
Верю в облегчение.
Коль суждено еще побыть среди живых —
Дай выдержать новость и оценить.
Помоги пройти посредине, по интуиции, внушенной Тобой.
Оставь их со мной.
Это наша ночь.
Мы в празднично украшенной огнями темноте медленно вращаемся, вцепившись пальцами ног в земной шар, подставляя луне то спину, то живот и пытаясь определить свою судьбу по звездам.
Сегодня мы собрались, чтоб посмотреть и поддержать друг друга.
Это наша самая праздничная, самая коллективная ночь.
Щелкают-тикают годы: еще не сделано, еще не сделано, еще не сделано, уже не сделано…
Мы стоим на земле, где лежат кости миллиардов ходивших и весело встречавших.
Так же живших от «на грани разорения» до «на грани процветания».
А хозяева третьего над нами слоя костей будут восстанавливать наши лица по черепу и удивляться.
Этот совсем молодой.
А этот совсем здоровый.
А этот страдал, а у этого ранение, а у этого осколок, а этот мучился, оттого что всю жизнь делал не то, что хотел, а то, что обещал.
А его заверяли, что, если будет делать то, что обещает, один раз сделает то, что хочет.
А этот скромный добился успеха.
А этот наглый добился наград.
И они завидовали друг другу.
А этот разбогател и не мог понять, любят ли его женщины и кто именно, и бесконечно переписывал завещание.
А этот тридцать лет говорил жене: вот увидишь, мы будем счастливы. И никто не понял – он был или будет прав?
А этот всю жизнь смеялся сквозь слезы, пока не заплакал сквозь смех.
Кто знает, может, им удадутся наши морщины, выражения глаз и наши мысли – еще не сделано, еще не сделано, еще не сделано, уже не сделано.
Может, им удадутся наши женщины, которые были с нами и были гораздо большим, чем им хотелось, – нашей опорой, утешением, первыми испытателями нашего юмора и наших проектов.
Используя их великую выживаемость, решительность, чинонепонимание, политиконаплевание и способность переживать неприятности по мере их поступления, мы судорожно цеплялись за них и часто посылали их вперед.
Наше поколение – выяснят те, будущие, – умело не так любить, как дружить, и предательство, которое давалось так легко, вызывало большие переживания. И наше главное достижение – раскованные дети, дети, непохожие на нас.
И вот мы сидим этой ночью, лучшие или не лучшие, но нам будут завидовать те, кто нас не видел.
Это время интереснее последующих.
Это время будет интереснее будущих времен.
Они будут читать наши письма и стаскивать наши стулья, ибо мы жили в эпоху перемен.
Нам ничего не остается, как писать интересно и лучше видеть тех, от кого останутся фотографии, слышать живые голоса тех, кто будет глубоко изучаться в записи, и поддерживать, и касаться друг друга. И не сбрасывать руку с плеча: «Постой, я расскажу тебе…»
Все-таки она вертится.
А на дворе зима.
Звучит музыка Штрауса и Дунаевского.
Поднимается ветром серебряная пыль, и мы в красивых одеждах, с бокалами и дамами переходим в две тысячи первый год!