Очерки японской литературы - [13]
(Чжу-линь), по линии пессимизма (Инь-ши) п по линии мистицизма (Шэнь-сянь). На мировоззрение японцев той эпохи в познавательной области оказало влияние по преимуществу это последнее направление, по своему характеру могущее довольно близко подойти отчасти к натурфилософским элементам системы Инь-Ян и главным образом — к оккультным элементам ученпя Чань-вэй.
Как в конфуцианском, так равно и даосском оккультизме содержится чрезвычайно подробно разработанная практическая сторона, имеющая при этом все характерные признаки магшт. Особенно широкого развития оно достигает в учении Чань-вэй и главным образом в даосском опыте Шэнь-сянь. Этот праксис, попав на родственную почву примитивного синтоистического чародейства, способствовал превращению его в систему магических представлений, отзвуки которых сказываются во всех областях жизни того времени — как индивидуальной, так и общсствошюй.
Этому же превращению примитивного анимизма в оккультизм, элементарного чародейства в магию способствовал отчасти и буддизм, воспринятый японцами также в китайской оболочке (Священное писание на китайском языке; проповедники — китаизированные корейцы или сами же китайцы). Буддизм, при всем своем многообразном содержании, был воспринят господствующим сословием того времени главным образом в аспекте веры; тактическое же преломление этой последней составляла молитва, обращение к божествам. Идея веры до известной степени вошла в состав оккультных воззрений, идущих из других указанных источников; идея же молитвы укрепила представление о магическом воздействии, выросшее из других отраслей.
Нормативное мышление в эту эпоху нашло свое выражение главным образом в гедонизме, при этом — несколько сложного типа. Основой этого гедонизма был тот «наивный оптимизм», который характеризовал собою общее самочувствие японцев в мифологическую эпоху; оптимизм, обусловленный, как думают, общими благоприятными условиями существования, способствовавшими отвращению от всего ужасного, страшного, неприятного и обращению к светлому, чистому, радостному. На почве этого наивного оптимизма пышно развились семена даосского гедонизма, подкрепленного к тому же еще той же мистической доктриной Шэнь-сянь. Этот даосский мистицизм в Китае разветвлялся в двух направлениях: с одной стороны, он приводил к строгому подвижничеству и оккультному праксису, с другой — к культу чувствительности, при этом с большой долей чисто сексуальных элементов.
Благодаря соединению этих двух факторов, одного — национального, другого — воспринятого извне, первенствующим принципом нормативного мышления оказалось для первого сословия — наслаждение, постулатом же поведения — удовлетворение чувственных сторон своей природы, эмоциональных ее устремлений. Этот уклон до известной степени поддерживался и буддизмом, воспринятым, как сказано выше, только в некоторых своих частях: эстетические и чувственные элементы буддизма (в частности, «эстетическое отшельничество» и утонченный разврат) оказались особо выделенными, усиленно культивировались и, в свою очередь, способствовали укреплению и углублению основных гедонистических постулатов.
Однако все это, вместе взятое, как познавательные элементы, так и нормативные было усвоено не во всей своей полноте и значимости. Как конфуцианский и даосский оккультизм, так и буддийская религиозность были восприняты главным образом в эстетическом преломлении. Равным образом магия и гедонизм оказались весьма ограниченными в своем применении. В заклинательном обряде, изгоняющем из больного демонов болезни, японского зрителя того времени прельщала больше, пожалуй, чисто зрелищная сторона дела и своеобразная эстетика «заклинательных завываний» (ноносиру); в буддийском богослужении больше всего привлекала, пожалуй, внешняя красота всей церемонии: риз, облачений, размеренных движений. Оккультные воззрения служили целям «осложненного» эстетического восприятия; эстетические эмоции — целям более красочного переживания. Поэтому японцы тех времен никогда не достигали вершин даосской мудрости и совершенно не постигали глубин буддийской религиозности; они скользили по поверхности того и другого, выбирая и воспринимая только то, что совпадало с их исконным «наивным оптимизмом». Единственное, что они смогли проделать, это — первобытное чувство «радости жизни» превратить в утонченную «эстетику жизни». Развившаяся культура, могущественное влияние китайской художественной литературы и весь жизненный уклад аристократии не могли, конечно, оставить эту примитивную жизнерадостность в ее прежнем виде и заменили ее утонченными эмоциями эстетического порядка.
Под знаком этого эстетизма проходило и все мышление хэйанцев и — особенно ярко — вся их деятельность. Эстетизм был поистине основной пружиной всех представлений, всей психической жизни господствующего сословия эпохи Хэйан. Поэтому-то все мировоззрение этой аристократической эпохи и можно охарактеризовать, как было сказано уже, термином «эстетическое».
Мировоззрение второго сословия, активно выступившего на арену японской истории в XII веке, после падения аристократии, ближе всего будет определить понятием

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Н.И. КОНРАД: ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЯПОНИИ. ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ (С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО ПЕРЕВОРОТА ТАЙКА, 645 г.)КОНРАД, НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ (1891–1970), русский востоковед, историк мировой культуры. Родился в Риге 1 (13) марта 1891. В 1912 окончил Петербургский университет; в 1914–1917 стажировался в Японии. В 1920–1922 ректор Орловского университета. В 1922–1938 преподавал в Петроградском/Ленинградском университете и Ленинградском институте живых восточных языков, с 1926 в должности профессора. В 1930–1938 – заведующий японским кабинетом Института востоковедения АН СССР.

Однажды Пушкин в приступе вдохновения рассказал в петербургском салоне историю одного беса, который влюбился в чистую девушку и погубил ее душу наперекор собственной любви. Один молодой честолюбец в тот час подслушал поэта…Вскоре рассказ поэта был опубликован в исковерканном виде в альманахе «Северные цветы на 1829 год» под названием «Уединенный домик на Васильевском».Сто с лишним лет спустя наш современник писатель Анатолий Королев решил переписать опус графомана и хотя бы отчасти реконструировать замысел Пушкина.В книге две части – повесть-реконструкция «Влюбленный бес» и эссе-заключение «Украденный шедевр» – история первого русского плагиата.
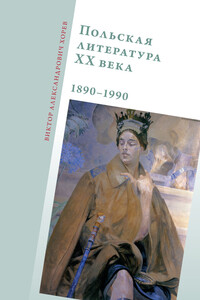
«…В XX веке Польша (как и вся Европа) испытала такие масштабные потрясения, как массовое уничтожение людей в результате кровопролитных мировых и локальных войн, а также господство тоталитарных систем и фиаско исторического эксперимента – построения социализма в Советском Союзе и странах так называемого социалистического лагеря. Итогом этих потрясений стал кризис веры в человеческий разум и мораль, в прогрессивную эволюцию человечества… Именно с отношением к этим потрясениям и, стало быть, с осмыслением главной проблемы человеческого сознания в любую эпоху – места человека в истории, личности в обществе – и связаны, в первую очередь, судьбы европейской культуры и литературы в XX в., в том числе польской».
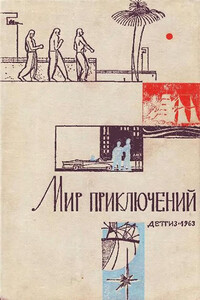
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
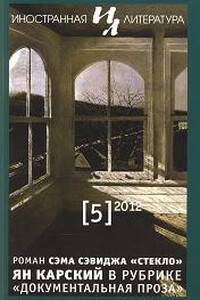
Статья Дмитрия Померанцева «Что в имени тебе моем?» — своего рода некролог Жозе Сарамаго и одновременно рецензия на два его романа («Каин» и «Книга имен»).

В первый раздел тома включены неизвестные художественные и публицистические тексты Достоевского, во втором разделе опубликованы дневники и воспоминания современников (например, дневник жены писателя А. Г. Достоевской), третий раздел составляет обширная публикация "Письма о Достоевском" (1837-1881), в четвёртом разделе помещены разыскания и сообщения (например, о надзоре за Достоевским, отразившемся в документах III Отделения), обзоры материалов, характеризующих влияние Достоевского на западноевропейскую литературу и театр, составляют пятый раздел.