Очерки по русской семантике - [138]
Не имеющее признаков узкой диалектной локализации областное – «простонародное» – Ро(а)с(с)ея вошло в литературный обиход уже в начале XIX в. через фамильярно-бытовой язык дворянства, соприкасавшийся с разговорными стилями мещанства и крестьянства, «по рельсам дворянского просторечия».[197] Показательно, например, использование производного россейский в письмах Пушкина середины 20-х годов, где мы находим его в общем массиве грубовато-просторечных средств шутливо-иронического выражения. Ср.: «Получил ли ты мои стихотворенья? Вот в чем должно состоять предисловие: Многие из сих стихотворений – дрянь и недостойны внимания россейской публики – но как они часто бывали печатаны бог весть кем, черт знает под какими заглавиями, с поправками наборщика и с ошибками издателя – так вот они, извольте-с кушать-с, хоть это-с – с…» (письмо Л. С. Пушкину, 27 марта 1825 г.); «Занимает ли еще тебя россейская литература? я было на Полевого очень ощетинился…» (письмо П. А. Вяземскому, апрель 1825 г.).[198]
Позднее, с 50-60-х гг. XIX в., в связи с процессами демократизации русской литературы и публицистики и общей тенденцией вовлечения в систему средств литературного выражения элементов лексики народных говоров и городских низов Ро(а)с(с)ея в противопоставлении литературному Россия (ср. аналогичное соотношение в парах типа Киев – Кеев, Мария – Марея, позднее также партийный – партейный и др.) широко используется в стилизованном литературном диалоге и в сказе, ср.: «– Эх, барин! обрыдло же здесь все… Так бы и полетел домой, в Россею….» (И. Клингер. Два с половиною года в плену у чеченцев, 1847); «– В Россее ноне все пошло по-новому, – рассказывал Прохор Васильич…» (Ф. Нефедов. Иван Воин, 2 // Неделя. 1868. № 42); «– Барин россейский! он залетит опять в Питер, а нам пить, есть надо…» (Н. Успенский. Издалека и вблизи); «– Это всю Россею проезжай, – замечает Иван, – нигде таких умных слов и не услышишь…» (там же); «Пьяный десятский поднял руки вверх, шлепает ногами… и кричит: “Наша матушка Росея всему свету голова!”…» (Н. Успенский. Змей); «– Рази не видишь, баба с жиру сбесилась… Это у нас в Расее – словно болесть какая по рабочему народу ходит…» (А. Левитов. Московские «комнаты снебилью»); «– Дай ты мне такую бумагу, чтобы мне в Расею уйти…» (С. В. Максимов. На каторге); «– Соизволили, значит, вернуться в Расею, батюшка… – издал он радостной стариковской нотой…» (П. Боборыкин. Возвращение); «– Видно, уж ей так бог судил: – так и не уехала, так в Расее и померла…» (П. Сергеенко. Гувернантка); «– Да и вся-то, дружок мой, Россия… – Ну? – От Зеленого Змия… – Йетта вовсе не так: Христова Рассея…» (А. Белый. Петербург) и мн. др. под.
Эта традиция, продолжаясь в последующем развитии русской и советской литературы, но, естественно, ослабевая, дожила и до наших дней: «– Ванька! Керенок подсунь-ка в лапоть! Босому, что ли, на митинг ляпать? Пропала Россеичка! Загубили бедную!..» (В. В. Маяковский. 150 000 000 // Избранные произведения. Т. 2. М.: Худ. Лит., 1953. С. 63); «Мужикам Петенька нравится за разговорчивость. Пьяненькие, называют его “сердешным”, “Рассеем”, обещают прибавить жалованья…» (А. Неверов. Без цветов // Я хочу жить. М.: Сов. Россия, 1984. С. 33); «…половой говорил: – Заладила про свою деревню. Тоже Расея. Много ты понимаешь. Походи ночью по номерам – вот тебе и Paceя!..» (A. Н. Толстой. Хождение по мукам, I, 7 // Собр. соч. Т. 5. М., 1972. С. 61); «Весь строй с присвистом подхватывает: Разобью-уу я всю Евро-о-пу. Сам в Рассе-е-ею жить пойду-у-у-у…» (Е. Гинзбург. Юноша // Юность. 1967. № 9. С. 7).
Во всех подобных случаях Ро(а)с(с)ея как примета крестьянско-мещанской речи выступает в контекстах, ретроспективно представляющих более или менее отдаленное историческое прошлое. И это понятно: современная диалектная речь и городское просторечие слова Ро(а)с(с)ея и его производных в сущности уже не знают. Сегодня все – ей-варианты в стилистическом противопоставлении – ий-вариантам живут и функционируют только как изобразительное и выразительное средство языка художественной литературы, – с явной тенденцией к все большей и большей архаизации. И если бы эта функция была для них единственной, то отсутствие единообразия в их написаниях, убедительно свидетельствуемое приведенными выше иллюстрациями, не создавало бы никакой сколько-нибудь существенной орфографической проблемы и нормализация могла бы – по известному евангельскому принципу – спокойно отвернуться от них, предоставляя мертвым погребать своих мертвецов.
Дело, однако, обстоит по-другому: экспрессия грубоватого просторечия, которую рассматриваемые – ей-варианты еще усилили вследствие жесткого закрепления за контекстами социально и стилистически резкой характеризации, была перенесена с означающего на означаемое и осложнена резко отрицательной оценкой. Произошло то, что Л. В. Щерба называл «семантическим ростом» через «насыщение содержанием вариантов слов или форм, получившихся на разных путях».[199] Из средства характеризации субъекта речи – ей-варианты превратились в средство характеризации означаемого: сознание, опираясь на слово, собрало и сконцентрировало в нем некий сложный понятийный комплекс, который до этого мог быть выражен только перечислительно-описательным образом.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
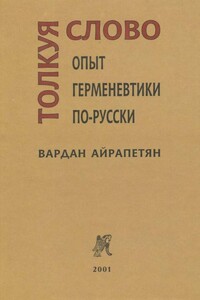
Задача этой книги — показать, что русская герменевтика, которую для автора образуют «металингвистика» Михаила Бахтина и «транс-семантика» Владимира Топорова, возможна как самостоятельная гуманитарная наука. Вся книга состоит из примечаний разных порядков к пяти ответам на вопрос, что значит слово сказал одной сказки. Сквозная тема книги — иное, инакость по данным русского языка и фольклора и продолжающей фольклор литературы. Толкуя слово, мы говорим, что оно значит, а значимо иное, особенное, исключительное; слово «думать» значит прежде всего «говорить с самим собою», а «я сам» — иной по отношению к другим для меня людям; но дурак тоже образцовый иной; сверхполное число, следующее за круглым, — число иного, остров его место, красный его цвет.
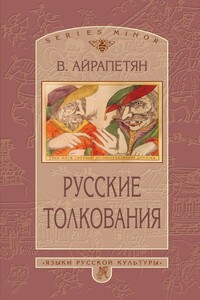
Задача этой книжки — показать на избранных примерах, что русская герменевтика возможна как самостоятельная гуманитарная наука. Сквозная тема составивших книжку статей — иное, инакость по данным русского языка и фольклора и продолжающей фольклор литературы.

Сосуществование в Вильно (Вильнюсе) на протяжении веков нескольких культур сделало этот город ярко индивидуальным, своеобразным феноменом. Это разнообразие уходит корнями в историческое прошлое, к Великому Княжеству Литовскому, столицей которого этот город являлся.Книга посвящена воплощению образа Вильно в литературах (в поэзии прежде всего) трех основных его культурных традиций: польской, еврейской, литовской XIX–XX вв. Значительная часть литературного материала представлена на русском языке впервые.