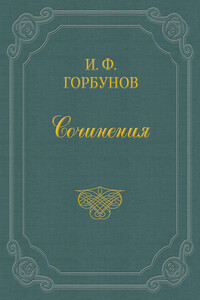Очерки о старой Москве - [8]
Он был в своем квартале мировой судья.
– Иван Семенов, помирись ты с этой анафемой. Ведь тебе же хуже будет, если она дело направит в управу благочиния.
– Обидно, Ермил Николаевич, обидно мириться-то, ведь я по первой гильдии.
– Ну, дай ты ей пятнадцать целковых…
– Ну, так и быть, получи! Только нельзя ли ее хошь дня на три в часть посадить…
– Уж сделаем, что можно.
– Позвольте узнать, в каком положении мое дело? – спрашивает, подходя к столу, средних лет женщина.
– Вы Анна Клюева? – скроивши важную мину, спрашивает комиссар, – вдова сенатского копииста? По происхождению – дочь унтер-офицера карабинерного полка?
– Да-с.
– Тэк-с. А вы давно кляузами изволите заниматься?
– Помилуйте, какие же это кляузы, когда он на паперти меня прибил…
– А свидетели у вас есть? А доктор вас свидетельствовал?
– Помилуйте…
– Вы нас, матушка, помилуйте! И без вас у нас дела много. Вы женщина бедная, возьмите пять рублей и ступайте с богом. А то мы вас сейчас должны будем отправить к частному доктору для освидетельствования нанесенных вам побоев, тот раздевать вас будет… Что хорошего – вы дама.
Просительница начинает всхлипывать.
– А как тот с своей стороны, – продолжает спокойным тоном комиссар, – озлится, да приведет свидетелей, которые под присягой покажут, что его в тот день не только в церкви, а и в Москве не было, так вас за облыжное-то показание…
– Помилуйте, – прерывает просительница.
– Позвольте, дайте мне говорить… – останавливает комиссар. – Вы не бывали на Ваганьковском кладбище?
– Мой муж там схоронен.
– Стало быть, мимо острога проезжали. Неприятно ведь вам будет в остроге сидеть.
– Я правду говорю! Неужели за правду…
– А те святой крест и евангелие будут целовать, что вы неправду говорите! Полноте, возьмите пять рублей. Василий Иванович, возьмите с г-жи Клюевой подписку, что она дело прекращает миром. Вам напишут, а вы подпишите.
– Извольте, я подпишу, только пяти рублей не возьму… Бог с ним!
– Ну, как хотите!
Он был в своем квартале и прокурор, только в редких случаях, это когда считал себя оскорбленным кем-либо из купцов, обидевших его «праздничными» или иными установленными обычаем денежными взносами. Тут он являлся во всем величии своей власти: вызывал в квартал дворников, находил в колодцах у обывателей утопленных котят, отыскивал непрописанные паспорта; простой пьяный шум на фабрике принимал за буйство с сопротивлением властям, но по свидании с обвиняемым обывателем преследование прекращалось «по недостатку улик».
Он был и судебным следователем.
«Во исполнение приказания вашего высокоблагородия, производил следствие с прикомандированным чиновником (таким-то) об ограблении купца (такого-то) в Водосточном переулке, причем грабители, употребив насилие, скрылись, оставив на месте, по всему вероятию, принадлежащий им лом и огарок стеариновой свечки. То и надо полагать, названные грабители из Москвы бежали, ибо нахождение их в Москве, при опасности быть пойманными, при нашем совместном заключении, невозможно. Причем, по долгу присяги, не могу не отнестись с большою похвалою к полицейскому служителю Гаврилову, трое суток, несмотря на сырость и ветер, сидевшему на реке Яузе, под Полуярославским мостом, выслеживая злодеев».
Он был и защитник.
– Батюшка, ваше благородие, защити ты меня, отец родной, – голосит, валяясь в ногах у комиссара, старуха… – Все пропил…
– Кто пропил? – грозно вскрикивает Ермил Николаевич.
– Сын, батюшка, родной сын… Защити ты меня…
– Это ты? – обращается комиссар к молодому, щеголевато одетому мастеровому.
– Я, – отвечает нахально мастеровой.
– Ты кто такой?
– Цеховой кислощейного цеха.
– То-то у тебя и рожа-то кислая!.. Ты знаешь божью заповедь: «Чти отца твоего и матерь твою»?
Бац!
Цеховой летит в стену.
– Ты знаешь, что твоя мать носила тебя в своей утробе сорок недель?
– Зн…
Бац!
– Ваше благородие…
– Ступай с богом! На первый раз с тебя довольно. Василий Иванович, возьмите с него подписку, что впредь он будет оказывать матери сыновнее почтение.
Дел в то блаженное время, требующих психического анализа, юридических знаний, научной подготовки, не возникало. Все дела были компетенции комиссаров, квартальных надзирателей, в редких случаях частных приставов, а если дело восходило до обер-полицеймейстера и обращались в управу благочиния, то сейчас же переносились обвиняемыми на консультацию к Иверским воротам,[7] в институт иверских юристов, дельцов, изгнанных из московских палат, судов и приказов. В числе этих дельцов были всякие секретари – и губернские, и коллежские, и проворовавшиеся повытчики, бывшие комиссары, и архивариус, потерявший в пьяном виде вверенное ему на хранение какое-то важное дело, и заведомые лжесвидетели, и честные люди, но от пьянства лишившиеся образа и подобия божия.
Собирались они в Охотном ряду, в трактире, прозванном ими «Шумла». Ни дома этого, ни трактира теперь уже не существует. В этом трактире и ведалось ими, и оберегалось всякое московских людей воровство, и поклепы, и волокита. Здесь они писали «со слов просителя» просьбы, отзывы, делали консультации, бегали расписываться «за безграмотностью просителя». И текла их жизнь, полная лишений, полная непробудного пьянства и угрызений совести, у кого она оставалась… С горечью взирали они на своего брата-дельца, подъезжавшего к сенату на своей лошади, приветствуемого всей служившей братией.

В настоящее издание вошли избранные юмористические произведения знаменитого писателя XIX века Ивана Федоровича Горбунова.Не многим известно, что у Козьмы Пруткова был родной брат – генерал Дитятин. Это самое вдохновенное создание Горбунова. Свой редкий талант он воплотил в образе старого аракчеевского служаки, дающего свои оценки любому политическому и общественному явлению пореформенной России.

«Чистосердечное раскаяние, принесенное в суде, на основании нового законоположения, ослабляет… Закон разрешает вам по внутреннему убеждению, а потому я прошу вас судить моего доверителя по внутреннему убеждению. Я отвергаю здесь всякое преступление. Я долго служил в Управе Благо…».

«Он с утра здесь путается. Спервоначалу зашел в трактир и стал эти свои слова говорить. Теперича, говорит, земля вертится, а Иван Ильич как свиснет его в ухо!.. Разве мы, говорит, на вертушке живем?..».

Валерий Тарсис — литературный критик, писатель и переводчик. В 1960-м году он переслал английскому издателю рукопись «Сказание о синей мухе», в которой едко критиковалась жизнь в хрущевской России. Этот текст вышел в октябре 1962 года. В августе 1962 года Тарсис был арестован и помещен в московскую психиатрическую больницу имени Кащенко. «Палата № 7» представляет собой отчет о том, что происходило в «лечебнице для душевнобольных».

Оборотничество, ликантропия, явления призраков из потустороннего мира, круговорот душ и диктат рока — таковы темы мистическо-фантастических произведений Поля Виолы, разворачивающихся на фоне странных «помещичьих гнезд» Полесья. Под псевдонимом «Поль Виола» (Paul Viola) в печати выступал киевский поэт, прозаик и переводчик П. Д. Пихно (1880–1919). Его рассказ «Волчица» и повесть «Мраморное поместье», вошедшие в настоящую книгу, переиздаются впервые.
![Тринадцать: Оккультные рассказы [Собрание рассказов. Том I]](/storage/book-covers/86/86c1d9f26f4e3d4c98834f70b0afbac3cb082a09.jpg)
В первом томе собрания рассказов рижской поэтессы, прозаика, журналистки и переводчицы Е. А. Магнусгофской (Кнауф, 1890–1939/42) полностью представлен сборник «Тринадцать: Оккультные рассказы» (1930). Все вошедшие в собрание произведения Е. А. Магнусгофской переиздаются впервые.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
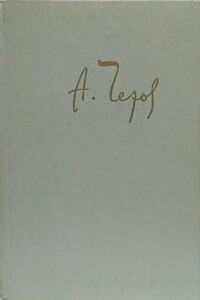
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.