Общественная психология в романе «Бесы» - [9]
Остановимся прежде всего на Шатове, которому в романе выпала самая страдательная роль и индивидуальность которого разработана автором с особенным мастерством.
Шатов до известной степени стоит в стороне от пресловутой «кучки», сгруппированной Петром Степановичем в губернском городе. По своим убеждениям он даже в полном разрезе с подпольными революционерами. В ранней молодости и он стоял в их рядах, и даже эмигрировал без всякой основательной причины. За границей женился он на бойкой русской барышне, из гувернанток; «прожили они вдвоем недели с три, и потом расстались как вольные и ничем не связанные люди, тоже и по бедности». Жена вскоре затем сошлась со Ставрогиным, а муж уехал в Америку, где бедствовал вместе с Кирилловым года три. Там он резко изменил свои убеждения, из атеиста и революционера сделавшись человеком верующим. Впрочем, жизнь до такой степени изломала его, что он потерял характер и стал не способен ни к какой действующей роли. Камень придавил его, по выражению автора, и вся последующая жизнь его должна проходить в корчах под этим камнем. Он застрял на распутии жизни в мучительной борьбе здравомыслия с бесхарактерностью и безволием, отличающим русских людей этого типа. Разорвав с эмиграции и революции, он, однако, не мог пристать ни к какому делу, ни к какой установившейся форме жизни и остался в подполье, измученный, страдающий, одинокий, сознающий всю мерзость среды и не находящий из неё выхода. Обстоятельства толкнули его в кучку; но внутренне он давно разорвал с нею, и, однако, плетется подле нее, единственно потому, что вне ее нет ничего, к чему бы он мог приткнуться. Открытая, широкая жизнь идет мимо него, как нечто совершенно чуждое: вышедший из подполья, одичалый, не способный ни к какому практическому делу, он видит себя замкнутым в заколдованном круге, среди трагической необходимости жить с людьми, которых искренно, убежденно презирает. «Я слышал, – говорит он своей жене, – что ты будто бы презирала меня за перемену убеждений. Кого ж я бросил? Врагов живой жизни, устарелых либералишек, боящихся собственной независимости; лакеев мысли, врагов личности и свободы, дряхлых проповедников мертвечины и тухлятины! Что у них: старчество, золотая средина, самая мещанская, подлая бездарность, завистливое равенство, равенство без собственного достоинства, равенство, как сознает его лакей или как сознавал француз 93 года… А главное, везде мерзавцы, мерзавцы и мерзавцы!» В этой неотвратимости – жить в среде, так искренно презираемой, – заключается весь трагизм людей, вышедших из подполья и внутренне с ним разорвавших.
И вот в ту минуту, когда заколдованный круг готов совсем замкнуться вокруг несчастного Шатова, когда неестественное положение его между «кучкой» и надпольною жизнью должно окончательно изломать и придавить его, судьба неожиданно указывает ему выход. Жена его, брошенная за границей Ставрогиным, возвращается к нему, чтобы под его нищенским кровом дать жизнь чужому ребенку. А Шатов до того измучен, до того придавлен, что в этом столкновении видит спасительный выход к возрождению. Мотив этот с такою теплотой, с таким художественным мастерством разработан автором, что мы позволим себе напомнить здесь эту лучшую во всем романе страницу:
«…Он уселся у окна сзади дивана, так что ей никак нельзя было его видеть. Но не прошло и минуты, она подозвала его и брезгливо попросила поправить подушку. Он стал оправлять. Она сердито смотрела в стену.
– Не так, ох, не так… Что за руки!
Шатов поправил еще.
– Нагнитесь ко мне, – вдруг дико проговорила она, как можно стараясь не глядеть на него.
Он вздрогнул, но нагнулся.
– Еще… не так… ближе, – и вдруг левая рука ее стремительно обхватила его шею, и на лбу своем он почувствовал крепкий, влажный ее поцелуй.
– Marie!
Губы ее дрожали, она крепилась, но вдруг приподнялась и, засверкав глазами, проговорила:
– Николай Ставрогин подлец!
И бессильная, как подрезанная, упала лицом в подушку, истерически зарыдав и крепко сжимая в своей руке руку Шатова.
С этой минуты она уже не отпускала его более от себя, но потребовала, чтоб он сел у ее изголовья. Говорить она могла мало, но все смотрела на него и улыбалась ему как блаженная. Она вдруг точно обратилась в какую-то дурочку. Все как будто переродилось. Шатов то плакал, как маленький мальчик, то говорил Бог знает что, дико, чадно, вдохновенно; целовал у ней руки; она слушала с упоением, может быть и не понимая, но ласково перебирала ослабевшею рукой его волосы, приглаживала их, любовалась ими. Он говорил ей о Кириллове, о том, как теперь они жить начнут „вновь и навсегда“, о существовании Бога, о том, что все хороши… В восторге опять вынули ребеночка посмотреть.
– Marie, – вскричал он, держа на руках ребенка, – кончено со старым бредом, с позором и мертвечиной! Давай трудиться, и на новую дорогу, втроем, да, да!»
Но ему не суждено было выступить на новую дорогу: неестественные отношения его к «кучке» привели к кровавой катастрофе, которою оканчивается роман.
Совершенно другой нравственно-патологический тин представляет Кириллов. Автор не объясняет, под какими влияниями образовалась эта эксцентрическая натура. Мы знаем только, что Кириллов с Шатовым «долго лежали вместе» в Америке и, конечно, много выстрадали. Он выступает в романе уже с созревшею психическою болезнью, с выработанною философскою системой, которая, при всей своей нелепости, есть результат умственного усилия, продукт мысли, болезненно, но сильно напряжённой. Он еще более, чем Шатов, придавлен идеей и корчится под тяжестью ее; это маньяк с задатками эпилептика. При недостатке веры, столь обыкновенном в людях нашего века, у него нет индифферентизма, и в этом все его несчастие. Он не может остановиться на одном легоньком отрицании; в нем есть потребность убежденного неверия, отрицательной веры, как для других бывает настоятельна потребность положительной веры. Отправляясь от отрицания, он напряженно выслеживает в своем воспаленном мозгу ряд силлогизмов, которые приводят его к мысли о самоубийстве. «Если Бог есть, – рассуждает Кириллов, – то вся воля Его, и из воли Его я не могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие. Я обязан себя застрелить, потому что самый полный пункт моего своеволия – это убить себя самому». Конечно, никогда более дикая религиозно-философская система не рождалась в человеческом мозгу; но дело не в системе. Важно то, что в лице Кириллова мы видим человека, который в наш практический и индифферентный век, когда философские и религиозные вопросы занимают почти одних специалистов, израсходовал всю свою жизнь на эти вопросы, иссушил над ними свой мозг и наконец пустил себе пулю в лоб единственно для того, чтобы поставить последнюю точку своей теории… Насколько такое явление годится для обобщений, к каким прибегнул автор в конце своего романа, насколько оно выражает собою действительную болезнь своего века – это другой вопрос, к которому мы еще обратимся. Впрочем, в самом романе практические требования века как бы восстают против идеализма Кириллова: самоубийство из-за идеи представляется чем-то до того неестественным, неправильным, что знаменитая «кучка» спешит утилизовать его для своих практических целей, убедив Кириллова в предсмертной записке принять на себя убиение Шатова и прочие преступления революционной пятерки.
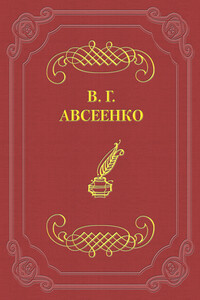
«Начало XVIII вѣка застало Россію въ разгарѣ преобразовательной дѣятельности Петра Великаго. Молодой царь уже побывалъ въ Европѣ, насмотрѣлся на тамошніе порядки, личнымъ наблюденіемъ и сравненіемъ оцѣнилъ преимущества европейскихъ знаній, научился самъ многому невѣдомому въ московской Руси, и вызванный изъ недоконченнаго путешествія извѣстіемъ о стрѣлецкомъ бунтѣ, возвратился неожиданно въ Москву съ твердымъ намереніемъ приступить къ пересозданію страны и перевоспитанію народа. Твердой рукой расправился онъ съ участниками бунта, и не давая опомниться противникамъ новизны, заставилъ ихъ прежде всего пріучаться къ внѣшнему европейскому обличью: отмѣнилъ обычай носить длинныя неподстриженныя бороды и долгополое платье.

«Васса Андреевна Ужова встала очень поздно и имела не только сердитый, но даже злющій видъ. Умывшись, противъ обыкновенія, совсемъ наскоро, она скрутила свою все еще богатую косу въ толстый жгутъ, зашпилила ее высоко на голове, накинула на плечи нарядный, но не очень свежій халатикъ, и вышла въ столовую, где горничная Глаша поставила передъ ней кофейникъ, корзинку съ хлебомъ и большую чашку. Все эти принадлежности Васса Андреевна оглянула съ враждебной гримасой, поболтала ложечкой въ сливочнике, потомъ лизнула эту ложечку языкомъ, и отбросила ее черезъ весь столъ…»Произведение дается в дореформенном алфавите.

«Въ большомъ кабинете, на длинномъ и широкомъ диване, покоился всемъ своимъ довольно пространнымъ теломъ Родіонъ Андреевичъ Гончуковъ, мужчина летъ сорока, съ необыкновенно свежимъ, розовымъ цветомъ лица, выдавшимися впередъ носомъ и верхнею челюстью, задумчивыми голубовато-серыми глазами, и густыми каштановыми волосами…»Произведение дается в дореформенном алфавите.

«Пропускаю впечатленія моего ранняго детства, хотя изъ нихъ очень многое сохранилось въ моей памяти. Пропускаю ихъ потому, что они касаются моего собственнаго внутренняго міра и моей семьи, и не могутъ интересовать читателя. Въ этихъ беглыхъ наброскахъ я имею намереніе какъ можно менее заниматься своей личной судьбой, и представить вниманію публики лишь то, чему мне привелось быть свидетелемъ, что заключаетъ въ себе интересъ помимо моего личнаго участія…»Произведение дается в дореформенном алфавите.

«Иванъ Александровичъ Воловановъ проснулся, какъ всегда, въ половине десятаго. Онъ потянулся, зевнулъ, провелъ пальцемъ по ресницамъ, и ткнулъ въ пуговку электрическаго звонка.Явился лакей, съ длиннымъ люстриновымъ фартукомъ на заграничный манеръ, и сперва положилъ на столикъ подле кровати утреннюю почту, потомъ отогнулъ занавеси и поднялъ шторы. Мутный осенній светъ лениво, словно нехотя, вобрался въ комнату и поползъ по стенамъ, но никакъ не могъ добраться до угловъ, и оставилъ половину предметовъ въ потемкахъ…»Произведение дается в дореформенном алфавите.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.