«Образ двадцатого… В прошлом и настоящем» - [2]
Р. Магритт. Красная модель. 1935
Почему теперь, на рубеже столетий, мы задумываемся об образе? Помимо просто удобства — как авторского, так и читательского — это и определенный прием, позволяющий говорить о труднопознаваемом, так как велик фактор рассогласованности (впрочем, более кажущейся, чем действительной) частей, что выражается в калейдоскопическом богатстве школ, направлений и имен. В образе сливаются чувственные представления, спровоцированные наблюдениями над рассматриваемым объектом, что в любом разговоре об искусстве представляется важным, и мыслительно-познавательные, интересующиеся структурой объекта и предполагающие разные гипотезы и теории, раскрывающие его суть. Более того, хотелось иметь представление о целом, что образ обеспечивает в первую очередь, ибо цельность есть первое его качество. В таком случае не стоит вопрос о полноте его, так как образ в этом не нуждается, ему важнее общая характеристика. Подступами к тому и является предлагаемый текст, обобщающий многие наблюдения[4] и, хотелось бы надеяться, предлагающий «картину XX века» в рамках современных рефлексий.
Книга, подобная этой, была задумана мной лет пятнадцать тому назад в соавторстве с Игорем Лукшиным. В стиле нашей абсурдной действительности она была набрана и... не издана. Теперь уже нет ни того издательства («Советский художник»), ни, увы, моего друга. Главы, которые сохранились от несостоявшегося проекта, пусть и в переработанном виде (так как времени уже прошло много), помечены в оглавлении звездочками. Собственно, можно считать, что эта книга сделана в память ему, ушедшему, и она еще раз доказывает, что «рукописи не только не горят», но и совершенствуются, как бы сами по себе...
Январь 2001
Образ двадцатого
Кажется, чем дальше от века, тем больше мы превращаем его в образ; и он уже, хотя и прочувствованное по-своему, все же — отлетевшее, отпавшее, метафизическое, астральное... Во всяком случае — ныне — «вспоминаемое»; и на своей шкуре мы рассматриваем его таинственные письмена, не понимая, зачем они нужны, живем среди вещей, которые, за малым исключением, напоминают образцы, как то ни странно, XIX столетия; жадно вглядываемся в приметы «нового», причем скорее в образы моды и рекламы, в стратегии СМИ, в открытия астрофизики и биологии, чем в то, что называется искусством (ибо оно часто вызывает, даже по названию своему, сомнения самого разного рода). Поэтому редко в картины и статуи, пряча их по музеям, куда можно совершить «эстетическую прогулку», а можно и забыть об их существовании, как это делает большинство населения планеты. Собственно, так ныне ходят в парк, не думая, что там растут деревья, давно посаженные, и к тому же не нами. Причем в парк, чаще не зная даже названия растений и имен садоводов, их взрастивших.
Сугубо частное дело — решать, куда пойти. И отношение к искусству в XX столетии — также сугубо частное дело, что предполагает определенную свободу соучастия. Тем не менее даже у обывателя, которому мало что известно, имеется, хотя это крайне парадоксально и необычно, какое-то свое мнение по поводу того, чего он, в сущности, не знает. То есть, иными словами, над ним довлеет какая-то схема отношений, аналогичная внушенному чуть ли не свыше, хотя, скорее, слухами, обрывками из массовой информации. Так, крестьянин, которого отправляли из российской глубинки в окопы Первой мировой войны, плохо знал, где находится Австрия и Германия, но умирал, имея некий образ этих «заклятых врагов», и был в каком-то отношении прав.
Американцы (их было 75000; в их числе и президент США), которые в 1913 году посетили в Нью-Йорке, а потом в Чикаго и Бостоне Международную выставку современного искусства (известную как «Армори шоу»), где увидели множество картин и статуй разных мастеров, от Делакруа и Курбе до Дюшана, вынесли определенное представление о том, чего ждать от «европейской заразы», и в дальнейшем к ней привыкали долго. Тем более что газеты пугали рассказами об «Обнаженной, спускающейся по лестнице». Синдром «Армори шоу» пронизывает все сказания об искусстве XX века в Америке, и именно с этого события начинается обычно его история.
В России аналогичное мероприятие — Салоны В. Издебского, первый из которых был показан в 1910 году в Одессе, Киеве, Петербурге и Риге (700 произведений, включая работы В. Кандинского, П. Пикассо, Ж. Брака, Ж. Руо и «бубновалетовцев»). На нем можно было видеть всю «левую» Европу того времени. Эти впечатления подкреплялись выставками «Современных течений в искусстве» у Н.Е. Добычиной в Петербурге и московскими салонами «Золотого руна». Плюс к этому, конечно, учились современному искусству по московским коллекциям С.И. Щукина и И.А. Морозова. Отклики на эти события захлестнули прессу того времени. По примеру передвижников Давид Бурлюк отправился покорять провинцию, в частности Екатеринбург. И подобное представление о новом искусстве, тогда посеянное, в стране сохранялось до 1960-х годов (а думается, и более). Помнится, как во времена Н.С. Хрущева обыватели, заглядывая в залы Матисса в Эрмитаже, восклицали: «Ах, вот то искусство, с которым борется Хрущ!» В классике они видели наглядную агитацию.

Книга дает представление о крупнейших явлениях авангардного искусства XX в., позволяет приблизиться к пониманию современной художественной культуры. Энциклопедически полно характеризуются течения авангарда — фовизм, экспрессионизм, кубизм, дадаизм, сюрреализм, абстрактное искусство, поп-арт и др. Анализируется искусство последних десятилетий. Особое внимание уделено крупным мастерам — П. Пикассо, В. Кандинскому, С. Дали, К Малевичу, Р. Раушенбергу и др.
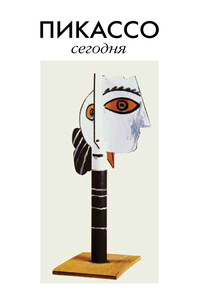
Искусство Пабло Пикассо рассматривается в широком художественно-историческом контексте. Анализируются многообразные аспекты творчества мастера – живописца, графика, скульптора, сценографа, керамиста, ювелира. Показаны его связи с различными пластами мирового художественного наследия. Затрагивается тема влияния Пикассо на творческие поиски художников ХХ столетия. Освещаются новые аспекты темы «Пикассо и Россия».

Новая искренность стала глобальным культурным феноменом вскоре после краха коммунистической системы. Ее влияние ощущается в литературе и журналистике, искусстве и дизайне, моде и кино, рекламе и архитектуре. В своей книге историк культуры Эллен Руттен прослеживает, как зарождается и проникает в общественную жизнь новая риторика прямого социального высказывания с характерным для нее сложным сочетанием предельной честности и иронической словесной игры. Анализируя этот мощный тренд, берущий истоки в позднесоветской России, автор поднимает важную тему трансформации идентичности в посткоммунистическом, постмодернистском и постдигитальном мире.

По убеждению японцев, леса и поля, горы и реки и даже людские поселения Страны восходящего солнца не свободны от присутствия таинственного племени ёкай. Кто они? Что представляет собой одноногий зонтик, выскочивший из темноты, сверкая единственным глазом? А сверхъестественная красавица, имеющая зубастый рот на… затылке? Всё это – ёкай. Они невероятно разнообразны. Это потусторонние существа, однако вполне материальны. Некоторые смертельно опасны для человека, некоторые вполне дружелюбны, а большинство нейтральны, хотя любят поиграть с людьми, да так, что тем бывает отнюдь не весело.

Книга посвящена истории отечественной фотографии в ее наиболее драматичный период с 1917 по 1955 годы, когда новые фотографические школы боролись с традиционными, менялись приоритеты, государство стремилось взять фотографию под контроль, репрессируя одних фотографов и поддерживая других, в попытке превратить фотографию в орудие политической пропаганды. Однако в это же время (1925–1935) русская фотография переживала свой «золотой век» и была одной из самых интересных и авангардных в мире. Кадры Второй мировой войны, сделанные советскими фотографами, также вошли в золотой фонд мировой фотографии. Книга адресована широкому кругу специалистов и любителей фотографии, культурологам и историкам культуры.
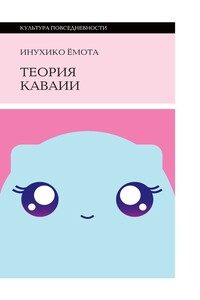
Современная японская культура обогатила языки мира понятиями «каваии» и «кавайный» («милый», «прелестный», «хорошенький», «славный», «маленький»). Как убедятся читатели этой книги, Япония просто помешана на всем милом, маленьком, трогательном, беззащитном. Инухико Ёмота рассматривает феномен каваии и эволюцию этого слова начиная со средневековых текстов и заканчивая современными практиками: фанатичное увлечение мангой и анимэ, косплей и коллекционирование сувениров, поклонение идол-группам и «мимимизация» повседневного общения находят здесь теоретическое обоснование.

Данное интересное обсуждение развивается экстатически. Начав с проблемы кризиса славистики, дискуссия плавно спланировала на обсуждение академического дискурса в гуманитарном знании, затем перебросилась к сюжету о Судьбах России и окончилась темой почтения к предкам (этакий неожиданный китайский конец, видимо, — провидческое будущее русского вопроса). Кажется, что связанность замещена пафосом, особенно явным в репликах А. Иванова. Однако, в развитии обсуждения есть своя собственная экстатическая когерентность, которую интересно выявить.

Эти заметки родились из размышлений над романом Леонида Леонова «Дорога на океан». Цель всего этого беглого обзора — продемонстрировать, что роман тридцатых годов приобретает глубину и становится интересным событием мысли, если рассматривать его в верной генеалогической перспективе. Роман Леонова «Дорога на Океан» в свете предпринятого исторического экскурса становится крайне интересной и оригинальной вехой в спорах о путях таксономизации человеческого присутствия средствами русского семиозиса. .