Оболганная империя - [4]
Казалось бы, ведь страшно подумать: сама тянет в себя непостижимая глубина; неужели же можно, стоя у этой пропасти, примериваться аршином, дабы одеть эту бездну в некий современный костюм?
Кстати, вот тема для будущего исследователя: с какой целью так методически выхолащивалось на сцене (и не только на сцене) слово русских классиков? Кое-что может пояснить письмо научного работника В. Трухтанова о постановке А. Эфросом чеховских "Трех сестер" на Малой Бронной (газета "Советская Россия" от 13 февраля с.г.): "... огромная тахта на авансцене - эмблема спектакля. Чуть ли не все герои побывали на этой тахте. Чего только на ней не происходит: и валяются от безделья, и целуются, и бьются в истоме, когда играет молодая кровь... В чеховской пьесе - твист. Это ли не фиглярство?..
В театре на Малой Бронной чуть не каждую неделю перед сотнями людей звучат монологи "офицериков" Тузенбаха и Вершинина о будущем, о том, что оно будет прекрасным, о том, что ради него лишь и стоит жить. Эти монологи произносятся в таком саркастически-издевательском тоне и над Чеховым, и над теми, кто верит в это, с такими марионеточными подергиваниями и ужимками, что о какой-либо преемственности поколений, взаимном обогащении не только говорить - думать неловко. Зато какой - эффект все наоборот!..
Кто следующий подвергнется экзекуции?.. Пушкин, Горький, а может быть, Тургенев или Островский?"
Автор письма спрашивает: "Какие идеалы вы несете взамен ниспровергаемых? Пока налицо только разрушение". Виден ли конец этому разрушению?
И как же заразительна "культурная" элегантность! В самом деле, если мы умнее (потому что современнее) наших предков, если скоро будет преизбыток Моцартов (всех даже невозможно будет приметить), то что нам какой-то прошлый Моцарт! Насколько беспредельны наши прогрессивные возможности, можно судить, например, по такому отношению к красоте. Один философ первых веков нашей эры отмечал в красоте ее "способность ранить душу человека, оставить в ней след неизгладимый" (привожу слова одного историка). Гете считал, что красота может быть только преходящей. Две бездны - Мадонну и Содом, божественное и дьявольское видел в красоте Достоевский. А мы сейчас куда основательнее проникаем, исчерпывая это понятие красивым ширпотребом.
Можно писать диссертации о красоте; одеваться красиво, то есть модно; сидеть в красивом ресторане, красиво выпивая и покуривая; прищуривание, эрудированные разговоры, тонкость намеков - все распрекрасно. Но так все это пестрит, мельтешит, что, как ни старайся наедине, ни за что не соберешь эту воздушную красоту в какую-то одну точку, которая хоть чем-то задела бы душу. Пыль какая-то.
Смеяться разучились. Смотришь: здоровый мужик, добродушнейшая физиономия - думаешь, вот освежит душу своим столь же добродушно-открытым смехом, а он изобразит такое нечто учтиво-чичиковское, что тошно становится. Иначе нельзя - так принято, так культурно. А если мы вернемся к профессору Серебрякову, то здесь ни один шаг не обходится без "культуры", не говоря уже об его важном писании. Конечно, Серебряковых ничем не проймешь, они ни на минуту не сомневаются в историческом значении своих унылых монографий, но все-таки я приведу слова Фейербаха: "И подобно тому как ценность и содержание жизни не определяются количеством лет, так и ценность и содержание сочинения не определяются количеством листов. Жизнь, заключенная в кратком афоризме, может скрывать в себе больше духа, смысла и даже опыта, чем жизнь, многословно выраженная скучным профессорским или канцелярским стилем"
Это верно, что живет только то, где "больше духа" (не отрадно ли, не справедливо ли, что духовная значительность, выраженная в слове, не пропадает). Но верно и то, что это значительное может долгое время быть погребенным под корою незначительного, которое из-за своей доступности неистребимо.
Творческое требует силы, внутренней независимости, индивидуальности. Другое дело - видимость, форма "интеллектуального". Это уже всем доступно, достаточно лишь усвоить набор каких-то правил, изречений. В этой рационалистичности объединяется самая разномастная компания - от ученого схоласта до девицы с дипломом, которая обо всех новинках искусства может весь вечер щебетать.
Все на свете можно опошлить, и в этом бессмертная заслуга бессмертного мещанства. В свое время Блок писал об интеллигентах-философах, ищущих бога с кафедры, в "людской каше", при обилии электрического света. Таким сытейшим ораторам как бы отвечал Чехов в одном из своих писем: если веры в истину нет, "то не занимать ее шумихой, а искать, искать одиноко, один на один со своей совестью..."
Но в том-то и дело, что никак не могут "искать одиноко" эти динамичные деятели. Потому что осатанело крутятся в них цитатные и прочие "культурные" приспособления, и не могут они работать вхолостую. Вот тут-то и подавай на размол побольше "проблем" всякого сорта - начиная от судьбы мировых цивилизаций и кончая кибернетическим стихотворчеством. Попадись на вид Гл. Успенский с его болью - вот уж будет "блеск"!
Боль, "кровопролитная битва" на шахматной доске, атомная бомба, моднейшие актрисы - все одинаковая пища для крутящегося внутри интеллектуального агрегата.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
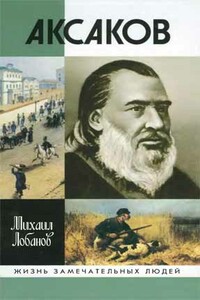
Сергей Тимофеевич Аксаков, как и его сыновья Константин и Иван, — ярчайшие представители течения, получившего название «славянофильства», — оставили значительный след в русской культуре и общественной жизни. Любовью к родной земле и ее истории исполнены самые значительные произведения С. Т. Аксакова «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука», вошедшие в сокровищницу русской литературы XIX века.Известный критик и литературовед Михаил Лобанов проникновенно повествует о жизни этой удивительной семьи и прежде всего ее главы — Сергея Тимофеевича, о той неповторимой теплоте и искренности, которые были свойственны их отношениям.2-е издание, исправленное и дополненное.

Автор - Андрей Андреевич Гордеев (1886-1977) - полковник Донского казачьего войска, в эмиграции с 1920 г.Первое издание в России обширного исторического труда Андрея Андреевича Гордеева (1886–1977), потомственного донского казака, офицера-фронтовика, полковника Донской белоказачьей армии, с 1920 г. жившего в эмиграции. Еще при жизни автора (1968) его живо и увлекательно написанное исследование, впервые опубликованное в Париже, стало заметным явлением в кругах эмиграции. Автор возводит происхождение казачества к взимавшейся Золотой Ордой с покоренной Руси «дани кровью» – «тамги».
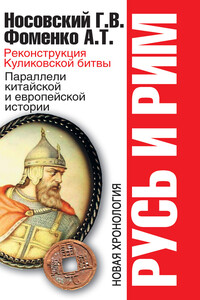
Сегодня мы хорошо знаем, как часто искажается история в угоду тем или иным сиюминутным веяниям. То же самое происходило и в прошлом, когда создавалась нынешняя версия древней и средневековой истории. Потом искажения застыли в виде «неопровержимых» истин, переходя из учебника в учебник. И нужно затратить много труда, чтобы сбить позднейшую штукатурку с подлинной картины нашего прошлого.Принятая сегодня версия русской истории и хронологии не свободна от глубинных ошибок и противоречий. Если мы хотим узнать правду о нашей истории, придется отказаться от множества вбитых нам со школьной скамьи предрассудков.В первой главе авторы предлагают реконструкцию русской истории и хронологии, основанную на методах Новой хронологии.

Предсказывать будущее своей страны — неблагодарное дело. Очень сложно предугадать дальнейший ход событий и тем более на столько лет вперёд, поскольку необходимо учитывать множество параметров. Но можно быть уверенным только в одном: к 2050 г. Украина кардинально преобразится. Она либо распадётся, а её территории поглотят более сильные соседние государства, либо же выйдет из состояния депрессии и начнёт грандиозное шествие по миру. Третьего не дано. Учитывая современное состояние Украины, вероятность второго сценария невелика, но именно его осуществления панически боится как Европа, так и Россия.

Королева огромной империи, сравнимой лишь с античным Римом, бабушка всей Европы, правительница, при которой произошла индустриальная революция, была чувственной женщиной, любившей красивых мужчин, военных в форме, шотландцев в килтах и индийцев в тюрбанах. Лучшая плясунья королевства, она обожала балы, которые заканчивались лишь с рассветом, разбавляла чай виски и учила итальянский язык на уроках бельканто Высокородным лордам она предпочитала своих слуг, простых и добрых. Народ звал ее «королевой-республиканкой» Полюбив цветы и яркие краски Средиземноморья, она ввела в моду отдых на Лазурном Берегу.

Древнее Перу – это страна легенд. Одна из них – самая невероятная и вместе с тем удивительно правдивая – повествует о саде, украшавшем некогда столицу империи город Куско. Империя эта была самой могущественной, самой большой и к тому же самой многонаселенной из всех когда-либо существовавших у индейцев. Вместе с инками древнеперуанская культура, прошедшая путь чрезвычайно сложного развития, достигла своей блестящей вершины всего лишь за одно столетие.С падением империи Чиму инки наконец устранили своих самых последних соперников.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
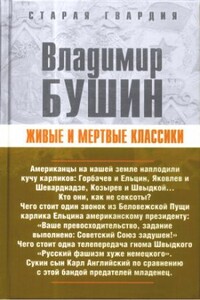
В своей новой книге Владимир Сергеевич Бушин прошелся своим острым пером по творчеству классиков советской и постсоветской литературы. Звание «мэтров» не уберегло Вадима Кожинова и Григория Бакланова, Александра Солженицына и Булата Окуджаву, Александра Проханова и Эльдара Рязанова от критики «в стиле Бушина», беспощадной и остроумной, от которой, по выражению Сергея Михалкова, никакие «адвокаты не спасут».
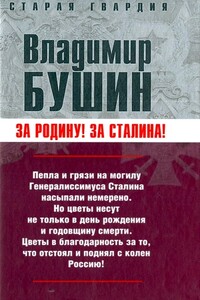
Владимир Сергеевич Бушин защищал социалистическое Отечество в роковые сороковые, когда враг стоял под Москвой, и продолжает сражаться за него до сих пор, когда измена бывших партийных и советских функционеров и карьеристов стала очевидной для всех.Теперь большинство из них перекрасилось и составило ядро нового российского политического бомонда. Внимательно рассматривая их поименно, автор рисует коллективный портрет нашей современной политической элиты: без приукрашивания, без лжи и без пощады.
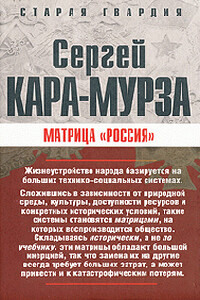
После 1991 г. Россия, как говорят, переживает «системный» кризис. Но его глубина и продолжительность таковы, что надо говорить о «системной» катастрофе – за 90-е годы были подпилены основные устои российской цивилизации. Не все они рухнули, сейчас понемногу мы поворачиваем к их восстановлению и модернизации. Но ущерб понесли огромный, и возрождение потребует колоссальных усилий и средств.