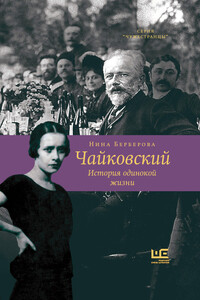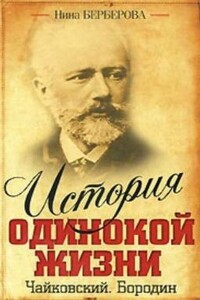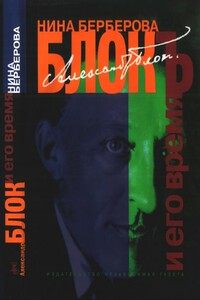— Послушайте, — сказал Энгель с детским удивлением, — зачем мне страховаться? Я совершенно один, у меня нет ни жены, ни детей, ни племянников. Я живу, работаю, продаю, даю деньги тому, у кого их нет и кто меня об этом просит, ношу костюм четыре года и ем одну зелень. Я не буду страховаться.
Асташев вдруг резко встал.
— Позвольте, — сказал он звонко и злобно, — я прихожу к вам в третий раз, и сижу у вас, и объясняюсь с вами. Мое время стоит дорого. Зачем же вы просите меня приходить? Если вам не для кого страховаться, вы должны были мне сказать об этом раньше. Вы делаете большую глупость: вы молоды, вы здоровы, вы можете застраховаться на дожитие.
— Не сердитесь на меня, пожалуйста, — сказал Энгель и повернулся спиной к Асташеву. — Я просил вас придти потому, что мне казалось, вы что-то знаете, вы, вероятно, сами не замечаете, около чего вы ходите. Скажите же мне только одно: как вы себе представляете, как это будет?
Асташев уже надевал пальто в передней.
— Как с зайцем на охоте, как с мухой в стакане, — сказал он сердито. Я — сельф мэд мэн, и меня эти подробности не касаются.
Он взял зонтик и портфель, приподнял шляпу над головой и, ни слова не сказав более, вышел. Энгель, вытирая вспотевшие ладони носовым платком, пошел к окну смотреть ему вслед. Окно мастерской выходило на площадь, и он видел, как Асташев вышел, как пошел, как подозвал таксомотор, сел в него и уехал.
День кончался. У Клавдии Ивановны по-прежнему не действовал лифт; он пил чай, она вязала. Говорили сегодня о политике, и Алеша пытался объяснить мамаше, что пролетариат — это те, от которых дурно пахнет. Потом он ушел, и у Ксении Андреевны был уже совсем спокоен и весел.
— Маменька, — говорил он, закусывая холодной телятиной и выбирая минуту, когда адмирал и губернатор не слушали, я вчера от вас поехал в Табарэн, с двумя канканерками, до поздней ночи. Угощал икрой, поил шампанским. Дайте мне на всякий случай адрес доктора Маркелова. Расстались, как товарищи.
Она качала головой с нескрываемым удовольствием и грудным своим шепотом отвечала:
— Отсядь подальше, гробовщик: от тебя твоими покойниками пахнет.
Он познакомился с ней года два тому назад, она жила с двумя старыми тетками в том же доме, где и Ксения Андреевна, только внизу, и однажды зашла сказать, что если придет Вязминитинов, то чтобы непременно спустился к ним, потому что сегодня заходил кто-то, кто видел недавно его сына в Москве; словом, было какое-то поручение, которое она пришла исполнить. Маман даже не взглянула на нее: хорошо, я скажу. Но когда пришел Вязминитинов, она забыла о Жене, и на следующий день Жене пришлось придти опять; она настойчиво просила простить ее за беспокойство и оставила Вязминитинову записку. Асташев опять был тут. Он встал, поздоровался, спросил, была ли Женя на модной пьесе, в которой играет актриса с изумительным бюстом; Женя покраснела, глаза у нее блеснули горячо, но строго, и она сказала, что в театры совсем не ходит, так как вечерами всегда занята.
— А в кинематографы? — спросил он, разглядывая ее внимательно.
— Ох, каждый день, — ответила она. — Ведь я служу кассиршей.
На ней было шерстяное, синее платье с пуговками, которые шли по худенькой груди от ворота к поясу.
— Какие в высшей степени оригинальные пуговки, — сказал Асташев и хотел дотронуться до одной из них. Она отшатнулась, глаза ее стали темными (а были светло-карими), и, быстро подбирая и подкручивая на затылке свои светлые волосы с золотым отливом, она ушла. И он увидел вдруг, что она тонка и стройна, в меру высока, с высокой талией и длинными, прямыми ногами.
— Ее мать вторым браком за графом Лодером, — сказала Ксения Андреевна, — тетки у нее полоумные, в страшной строгости ее держат. А она невинная, между прочим, голову даю, невинная. Феноменально, но факт.
Через неделю он столкнулся с ней у парадной двери.
Он уходил домой, она возвращалась с работы. «Вот тут, — он указал на ее черную сумочку, — вы носите всю вашу кассу». «Нет, — ответила она, — я сдаю деньги хозяину, он заходит за ними». «Ах, как жалко, а то бы я обокрал вас в каком-нибудь переулке». Она улыбнулась смущенно: «А в кассе у меня почему-то лежит револьвер, — сказала она доверчиво, я не знаю, зачем он собственно лежит, я не умею стрелять». «Разве бывают такие крупные суммы?» «В том-то и дело, что нет. Я думаю, его просто кто-нибудь забыл, обронил. Вот уже год, как у меня там хранятся пять перчаток, — все с правой руки, две связки ключей, пудреница, зажигалка, булавка с фальшивым камнем. Так и лежат». «Хотите пройтись немножко? Еще рано, и вечер хороший». «Нет, — ответила она, — меня ждут дома». И словно не договорив чего-то, она подала ему худую руку в замшевой перчатке. «Разве у вас нет флирта, и вы всегда возвращаетесь вовремя?» «У меня нет флирта, и никогда его не было», — ответила она и ушла.
«А ведь она красива, красива! Мила, невинна, тонка, молода; у нее веселый взгляд и грустный голос, и странно, что до сих пор не замужем. Ей, наверное, под тридцать», — думал он дорогой, но на следующий день он уже не помнил о ней и, когда через месяц опять столкнулся с ней на лестнице, не узнал ее.