Об искусстве. Том 2 (Русское советское искусство) - [4]
Но послушайте его теорию, и странность того, что целую жизнь талантливый человек пишет одни прелестные головки, и объяснится и в то же время возрастет. Вот что читаем мы в посвященной Боткину брошюре г. Глаголя:
«Преследуя в своих произведениях прежде всего декоративные цели, Боткин, — говорит в своей статье Жан Броше, — относился отрицательно, почти враждебно к самодовлеющей картине, предмету совершенно ненужному в теперешнем обиходе, не соответствующему всему характеру нашей обстановки и только в силу традиций, консервативной косности художников и отсутствия вкуса у большой публики находящему себе покуда сбыт и утилизацию».
«Боткин думал, что век этих крикливых, расписанных и обрамленных кусков холста и дерева логически должен уступить место не случайному, а обдуманному, проникнутому общей идеей, со вкусом и умением выполненному убранству помещения, в котором на долю собственно живописца достанется роспись стен, плафонов, рисунки ковров, тканей и т. д.».
Не правда ли, как своеобразно, что крупный художник может приводить все свое творчество в соответствие с «теперешним обиходом», единственную цель своего творчества видеть в «убранстве помещений» (притом чьих же? — очевидно, богатых буржуа!), что он может видеть в картинах только «крикливые, расписанные куски холста»?
Но разве в действительности огромное большинство «картин», выставленных рядом с декоративными панно Боткина, не заслуживает вполне его характеристики? Да. Но разве это картины?
Живописец–поэт, конечно, думает не о том, к какому зданию подошли бы его картины. Свою картину, воплощенную мечту, философскую поэму в красках он, скорее, готов признать за сокровище, ради которого должны строить особые здания. Но так мыслить о своих произведениях может только живописец–поэт, гений мысли и чувства, выражающий свою душу через посред- ? ство красок. И если приходится выбирать между «крикливыми, пестрыми кусками полотна в рамках» и чисто декоративною живописью, то преимущество, действительно, придется отдать последней…
Г–н Бенуа тоже больше автор этюдов, чем картин, но зачастую он находит интересные настроения. Впрочем, он особенно силен в своих рисунках, и рисунки его ближе, как это ни странно, к «картинам», чем его произведения, писанные масляными красками. Но хуже всего то, что г. Бенуа, по примеру многих, выбрал себе особую специальность. Теперь очень принято среди живописцев и молодых поэтов находить и защищать свою оригинальную индивидуальность, облюбовав какой–нибудь, иногда до смешного узкий и нарочитый род сюжетов. Г–н Бенуа облюбовал Версальский парк. Тысяча и один этюд Версальского парка, и все более или менее хорошо сделаны. И все–таки хочется сказать: «ударь раз, ударь два, но нельзя же до бесчувствия». Ибо г. Бенуа вызвал в публике род специального психического оглушения: Версаль перестал действовать. «Как хорошо!» — говорит публика и широко, широко зевает.
Г–н Билибин очень талантливый художник и прирожденный сказочник. Он много способствовал созданию фантастичного и изысканно–наивного стиля, который так прелестно оживляет русскую сказочную старину. Но на выставке, о которой я говорю, г. Билибин представлен в своем «новом» роде. Даровитый сказочник забыл, оставил в стороне свой юмор, свою древнерусскую грезу, свое узорное синее море и увлекся каким–то замысловатым фокусничанием, какими–то виртуозными линейными головоломками. Эти сухие, сухоостроумные геометрические виньетки, на мой взгляд, не имеют ни малейшего истинно художественного достоинства. Я вовсе не зову г. Билибина назад, к его былинному жанру—пусть он идет вперед; но его виньетки и обложки отнюдь не шаг вперед, а шаг назад: содержание окончательно улетучивается, остается одна формальная, скучная игра в капризные завитушки и затейки.
Молодой художник Чемберс несомненно что–то обещает. Но пока он неотступно подражает Бердслею. Это почти дико. Как можно подражать художнику, который стоит совершенно особняком, художнику–чудаку, грациозному, странному и абсолютно самобытному, индивидуальному? Не может быть, чтобы у Чемберса была душа Бердслея, и так как этого нет, то и подражание тут заслуживает осуждения. Можно учиться у мастера, открывающего новые общие пути, но безвкусием веет от подражателей неподражаемому, одинокому: По[10], Тернеру, БердсЛею.
Где творчество?
И Л. Пастернак не дал ничего. Его большая картина красива красотою заимствованных форм; она называется «Воспоминание об Италии» и представляет собой ловко скомбинированные фигуры спящих женщин Микеланджело и других старых мастеров; красивое четырехстишие Буонаротти подписано под картиной. Торжество заимствования, почти плагиат под соусом своеобразного колорита. Остальное — херуммоделирование. И на этот раз даже в смысле исканий и технических приобретений или намеков и кусочков настроения — все малоинтересно, за исключением, может быть, «Студентки», которая все–таки остается позади старой «Курсистки» Ярошенко.
Перечисленные мною художники принадлежат к числу талантливых, серьезных и уважаемых артистов. Тем обиднее, что дары их на сей раз были еще более скудны, чем обыкновенно. Потому что картины — «une oeuvre»
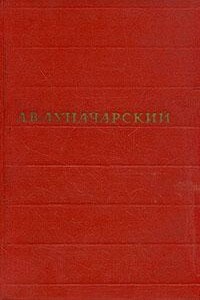
В четвертый том настоящего издания вошли книги Луначарского «История западноевропейской литературы в ее важнейших моментах» (1 изд. — в 1924 г., 2 изд. — в 1930 г.) и «На Западе» (1927).http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
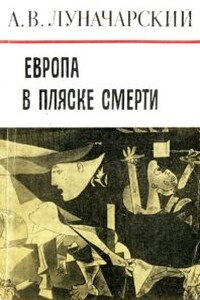
Предлагаемая вниманию читателей книга «Европа в пляске смерти» займет должное место в литературном наследии А. В. Луначарского. Посвященная чрезвычайно интересному и сложному периоду — первой империалистической войне, она представляет собой впервые публикуемый сборник статей и очерков, репортажей с мест сражений, а также записей бесед с видными политическими деятелями Европы. Все это было послано автором в газеты «Киевская мысль» и «День», чьим французским корреспондентом он состоял.http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
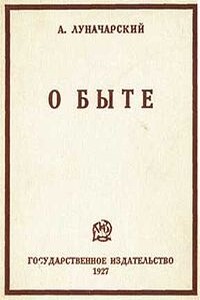
Данная брошюра представляет собой переработанную стенограмму доклада т. Луначарского, читанного им в Ленинграде 18/XII 1926 г.http://ruslit.traumlibrary.net.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.