О влиянии Евангелия на роман Достоевского «Идиот» - [12]
Приступив к созданию новой редакции романа, Федор Михайлович не имел даже приблизительного плана своего будущего произведения. У него была лишь идея, определяющая замысел, и «много зачатий художественных мыслей», пользуясь его собственным выражением из письма А. Н. Майкову от 31 декабря 1867 (12 января 1868) года. Писатель признается своему близкому другу, что всегда боялся «сделать роман» из своей давней и любимой идеи, так как не чувствовал себя готовым к тому: «Только отчаянное положение мое принудило меня взять эту невыношенную мысль. Рискнул, как на рулетке: “Может быть, под пером разовьется!”» Мечтая создать «полный» образ «вполне прекрасного человека», Достоевский с волнением писал, что целое у него выходит в виде «героя», образ которого он «обязан поставить». «Разовьется ли он под пером?» – повторял он с тревогой (28>2, 241).
В разделах академического комментария, посвященных анализу основных этапов творческой истории произведения, И. А. Битюгова показала, как во время работы над неосуществленной редакцией «Идиота» у Достоевского сложились некоторые идеи, сюжетные мотивы и ситуации, которые он, переосмыслив, перенес в новый роман. Тогда же наметились отдельные черты образов главных героев и возникли «силуэты» нескольких второстепенных действующих лиц (9; 337–385). Однако содержание дошедшей до нас части черновых материалов ко второй редакции не оставляет сомнения в том, что образы романа, как и его фабула, до самого конца развивались, в большой степени, «под пером». Естественно поэтому, что, опубликовав первую часть, Достоевский с особенным вниманием перечитывал написанное, анализировал его, вживаясь в собственные образы и определяя направление дальнейшего их развития. Этот анализ вскоре помог автору найти «синтез» «Идиота» и тем самым разрешить мучившую его проблему: как сделать своего героя привлекательным для читателя?
Остановившись на мысли о введении в действие детей, Достоевский в начале марта отметил в рабочей тетради, что у князя «заведения и школы», и в «Петербурге у него вроде клуба». 10 марта появляется запись, согласно которой Мышкин и теперь, как прежде в Швейцарии, «в детях находит людей и свою компанию». Размышляя о путях реализации этой идеи, Достоевский думал в пятой или шестой части романа, который мыслился им тогда в восьми частях, представить князя «царем» детского клуба (9; 216, 218, 220). С этого времени и почти до самого завершения работы писатель будет возвращаться к мысли о том, что глубокое общение с детьми – единственный исход и утешение князя: «Когда, в конце 4-й части, Н<астасья> Ф<илипповна> опять оставляет его и бежит с Рогожиным из-под венца, Князь совершенно уже обращается к клубу» (запись от 21 марта; 9, 240). И гораздо позднее, в октябре-ноябре 1868 года, планируя заключительные главы «Идиота», автор отмечает вновь: «NB3. Необходима сцена после бегства Н<астасьи> Ф<илипповны> из-под венца. Сцена с детьми. Где он им всё объясняет как большим». Остановившись на этой мысли, Достоевский 7 ноября коротко записывает в последний раз: «После венца – дети» (9; 284, 285). Эти заметки, носящие довольно общий характер, перекликаются с более ранней записью от конца марта, также продолжающей развитие мотивов новеллы о Мари: «Князь не вступает в прения с большими, а впоследствии так даже избегает больших, но с детьми полная откровенность и искренность – целая новая жизнь» (9, 240).
По всей вероятности, из-за крайне сжатых сроков работы над четвертой частью даже и эта, финальная, сцена в роман не была включена. Отношения «положительно прекрасного» героя с детьми, как отмечается всеми исследователями, касавшимися этого вопроса, получили наиболее полное отражение в «Братьях Карамазовых» (Алеша и мальчики). Записи о детском клубе впоследствии сменились краткими упоминаниями разных эпизодов с участием детей, которые автор собирался придумать (9; 364–365). Они так и не вошли в «Идиота», однако сам процесс планирования детских сцен принес свои плоды и помог писателю найти «синтез» романа. Дети – воплощение невинности, и мы узнаем из истории Мари, что Мышкина ничто от них не отделяет: он и сам – ребенок. Вот как он передает Епанчиным мнение об этом своего швейцарского доктора: «Наконец Шнейдер мне высказал одну очень странную свою мысль <…>, он сказал мне, что он вполне убедился, что я сам совершенный ребенок, то есть вполне ребенок, что я только ростом и лицом похож на взрослого, но что развитием, душой, характером и, может быть, даже умом я не взрослый, и так и останусь, хотя бы я до шестидесяти лет прожил (8, 63)». Возвращение к опубликованным главам романа и особенно к истории Мари, повторение в черновиках мотивов этой новеллы, осознание того, что в ней князь уже представлен мудрым ребенком, сыграли важную роль в становлении образа Мышкина. Они помогли писателю удостовериться, что мучившее его затруднение: «Чем сделать героя симпатичным читателю?» – уже в большой степени разрешено: в первой части романа ярко проявляется невинность героя, привлекая к нему сердца. Эта черта личности Мышкина настойчиво, хотя, быть может, и подсознательно, оттенена также в сцене именин Настасьи Филипповны. В ней генерал Епанчин заключает, что появление Мышкина «произошло по его невинности», а чуть позднее старичок-учитель «совершенно неожиданно» говорит, что князь имеет в сердце похвальные намерения, поскольку он «краснеет от невинной шутки, как невинная молодая девица» (8; 116, 119). Процесс осознания автором этого качества героя косвенно отразился в черновиках. 19 марта в них планируется свидание Аглаи с Ганей. Вспоминая первый визит Мышкина к Епанчиным, девушка замечает «как бы враждебно Князю»: «Ну, не совсем-то я люблю этих простых и невинных людей, которые так расчетливы и осторожны в своих шагах и так себе на уме. Он тогда приехал и у отца 25 р. на бедность принял, местечка просил, у нас ни словечка не проговорился <…>, а у него вот какое письмо о наследстве в кармане было!» (9; 237–238). Ганя же, к удовольствию Аглаи, защищает князя. 20 марта в рабочей тетради вновь появляется упоминание о детском клубе – царстве чистых, невинных душ. Перечитав наброски, Достоевский записи следующего дня сразу начинает

Вторая книга о сказках продолжает тему, поднятую в «Страшных немецких сказках»: кем были в действительности сказочные чудовища? Сказки Дании, Швеции, Норвегии и Исландии прошли литературную обработку и утратили черты древнего ужаса. Тем не менее в них живут и действуют весьма колоритные персонажи. Является ли сказочный тролль родственником горного и лесного великанов или следует искать его родовое гнездо в могильных курганах и морских глубинах? Кто в старину устраивал ночные пляски в подземных чертогах? Зачем Снежной королеве понадобилось два зеркала? Кем заселены скандинавские болота и облик какого существа проступает сквозь стелющийся над водой туман? Поиски ответов на эти вопросы сопровождаются экскурсами в патетический мир древнескандинавской прозы и поэзии и в курьезный – простонародных легенд и анекдотов.

В книге члена Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых популярно изложена новая, шокирующая гипотеза о художественном смысле «Моцарта и Сальери» А. С. Пушкина и ее предвестия, обнаруженные автором в работах других пушкинистов. Попутно дана оригинальная трактовка сверхсюжера цикла маленьких трагедий.
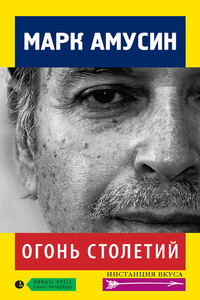
Новый сборник статей критика и литературоведа Марка Амусина «Огонь столетий» охватывает широкий спектр имен и явлений современной – и не только – литературы.Книга состоит из трех частей. Первая представляет собой серию портретов видных российских прозаиков советского и постсоветского периодов (от Юрия Трифонова до Дмитрия Быкова), с прибавлением юбилейного очерка об Александре Герцене и обзора литературных отображений «революции 90-х». Во второй части анализируется диалектика сохранения классических традиций и их преодоления в работе ленинградско-петербургских прозаиков второй половины прошлого – начала нынешнего веков.

Что мешает художнику написать картину, писателю создать роман, режиссеру — снять фильм, ученому — закончить монографию? Что мешает нам перестать искать для себя оправдания и наконец-то начать заниматься спортом и правильно питаться, выучить иностранный язык, получить водительские права? Внутреннее Сопротивление. Его голос маскируется под голос разума. Оно обманывает нас, пускается на любые уловки, лишь бы уговорить нас не браться за дело и отложить его на какое-то время (пока не будешь лучше себя чувствовать, пока не разберешься с «накопившимися делами» и прочее в таком духе)

В настоящее издание вошли литературоведческие труды известного литовского поэта, филолога, переводчика, эссеиста Томаса Венцлова: сборники «Статьи о русской литературе», «Статьи о Бродском», «Статьи разных лет». Читатель найдет в книге исследования автора, посвященные творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, поэтов XX века: Каролины Павловой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Владислава Ходасевича, Владимира Корвина-Пиотровского и др. Заключительную часть книги составляет сборник «Неустойчивое равновесие: Восемь русских поэтических текстов» (развивающий идеи и методы Ю. М. Лотмана), докторская диссертация автора, защищенная им в Йельском университете (США) в 1985 году.

Книга «Реализм Гоголя» создавалась Г. А. Гуковским в 1946–1949 годах. Работа над нею не была завершена покойным автором. В частности, из задуманной большой главы или даже отдельного тома о «Мертвых душах» написан лишь вводный раздел.Настоящая книга должна была, по замыслу Г. А. Гуковского, явиться частью его большого, рассчитанного на несколько томов, труда, посвященного развитию реалистического стиля в русской литературе XIX–XX веков. Она продолжает написанные им ранее работы о Пушкине («Пушкин и русские романтики», Саратов, 1946, и «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., Гослитиздат, 1957)