О смелых и умелых - [6]
— Ну, этого им бы не удалось! — воскликнул кто-то из разведчиков.
— А вот ранить всё-таки ранили, — сказал юный Санатов, — попал отец в госпиталь. Обрадовались фашисты и стали болтать, будто Санатов их напугался, носа не кажет, голоса не подаёт. А голос у моего отца, надо сказать, особый, как у табунщика, — улыбнулся Санатов, и напускная суровость исчезла с его лица. — У нас деды и прадеды конями занимались, ну и выработали, наверное, такие голоса… наводящие страх. Отцовского голоса даже волки боялись. И вот, как не стал он раздаваться по ночам, так и обнаглели фашисты. Приехал я вместе с колхозной делегацией: подарки мы привезли с хлебного Алтая… И услышал, как отца срамят с той стороны фашистские громкоговорители.
— Было, было такое, — подтвердили разведчики. — Срамили.
— Вот в такой обстановке колхозники и порекомендовали: оставайся, мол, Ваня, пока батя поправится, неудобно, нашу честную фамилию фашисты срамят. Подай за отца голос.
— Командир вначале сомневался, глядя на рост его, — усмехнулись бойцы.
— Ну, я вижу такое дело, как гаркну внезапно: «Хенде хох!» — И Санатов так гаркнул, что по лесу пошёл гул, словно крикнул это не мальчишка, которому велика солдатская каска, а какой-то великан, притаившийся за деревьями.
Я невольно отшатнулся.
— Вот и командир также. «Эге, говорит, Санатов, голос у тебя наследственный. Оставайся». И я остался. Вот так я кричу, когда первым открываю дверь фашистского блиндажа.
— Почему же первым именно вы?
— Потому что я самый маленький ростом. А ведь известно, когда солдат с испугу стреляет, он бьёт без прицела, на уровне груди стоящего человека. Вот так.
Санатов встал и примерился ко мне. Его голова оказалась ниже моей груди.
— Вам бы попали в грудь, а меня бы не задело. Это уж проверено. Мне потому и поручают открывать двери в блиндаже, что для меня это безопасней, чем для других. У меня над головой пули мимо летят. И потому работаем без потерь.
Не без удивления посмотрел я на солдата, так умело использовавшего свой малый рост.
— Ну, а с богатырём-то как же? Тоже на голос взяли?
— Давай рассказывай, как ты его, — подбодрили солдаты.
— Тут до богатыря дел было, — задумался Санатов, — натерпелся я с этими дураками. Ведь им жизнь спасаешь, а они… Один часовой меня чуть не зарезал…
— Вы и на часовых первым бросаетесь?
— Да, потому что я очень цепкий… Это у меня с детства выработалась привычка держаться за шею коня. Мы ведь, алтайские мальчишки, всё на неосёдланных да на диких. Вцепишься, как клещ, и как он, неук, не вертится, не скачет, какие свечки не даёт, нашего алтайского мальчишку нипочём с себя не сбросит.
— Но при чём же тут…
— А вот при чём, — вы встаньте, а я вам на шею внезапно брошусь и обниму изо всех сил… Что вы станете делать?
Я уклонился от испытания. Видя моё смущение, кто-то из разведчиков объяснил:
— Иные с испугу падают.
— Другие стараются удержаться на ногах и отлепить от себя это неизвестное существо. Забывают и про оружие. Забывают даже крикнуть.
— Ведь это всё ночью. Во тьме. На позиции. Непонятно, и потому страшно.
— Ну и пока немец опомнится, мы ему мешок на голову — и потащили.
Так объяснили мне этот приём разведчики, пока Санатов был в задумчивости.
— А вот один фашист ничуть даже не испугался, когда я кинулся к нему на шею. Здоровый такой, как пень. Только немного покачнулся. Потом прислонился к стене окопа и не стал меня отлеплять, а, наоборот, покрепче прижал к себе левой рукой, а правой спокойно достал из-за голенища нож. Достал, пощупал, где у меня лопатки. Да и ударил. В глазах помутилось. Думал — смерть… А потом оказалось, что он ножны с кинжала забыл снять… Аккуратный был, фашистский бандит, острый кинжал и за голенищем в ножнах хранил, чтобы не порезать брюк. Только это меня и спасло. — Санатов даже поёжился при страшном воспоминании.
— Ну, и взяли его?
— А как же, наши не прозевали. В мешок. Крикнуть-то он тоже не то забыл, не то не захотел, на свою силу-сноровку понадеялся.
— Ну, да наша сноровка оказалась ловчей, — усмехнулся разведчик, жилистый, рослый, рукастый.
— А ещё один дурак чуть мне все лёгкие-печёнки не отшиб, — вспомнил с грустной улыбкой Санатов. — Толстый был, как бочонок. От пива, что ли. Фельдфебель немецкий. Усищи мокрые, словно только что в пиве их мочил. Бросился я ему на шею, зажал в обнимку, пикнуть не даю. Он попытался отцеплять. Ну, где там — я вцепился, как клещ, вишу, как у коня на шее. И что же он сообразил: стал в окопе раскачиваться, как дуб, и бить меня спиной о бруствер. А накат оказался деревянный. Бух, бух меня горбом — только рёбра трещат… Хорошо, что я не растерялся. Воздуху побольше набрал в себя, ну и ничего, воздух спружинил. А то бы раздавил, гад. У меня ведь костяк не окреп ещё, как у отца. Он тоже ростом невелик, но в плечах широк и кость — стальная… Так что мне за него трудней в этих делах…
— А с великаном?
— Ну, с этим одно удовольствие получилось… Попалcя он мне уже после того, как я достаточно натерпелся… стал больше соображать, как лучше подход иметь.
— Да, уж тут был подход! — Среди товарищей маленького храбреца пробежал смешок.
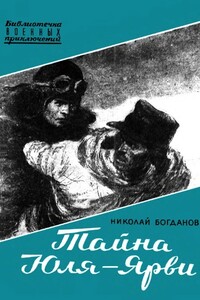
Любите ли вы сказки? Кто их не любит! А вот разгадывать их таинственный смысл не каждый умеет. В иных такие скрыты загадки, что не сразу догадаешься.Был на войне случай, когда от разгадки сказки зависели жизнь наших летчиков и военный успех…
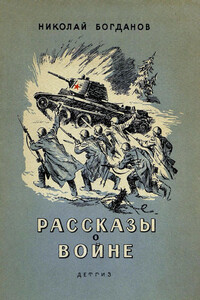
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
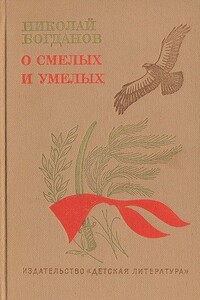
В книгу вошли известные произведения писателя: рассказы «О смелых и умелых», повесть «Легенда о московском Гавроше» и комсомольские рассказы «Вечера на укомовских столах».
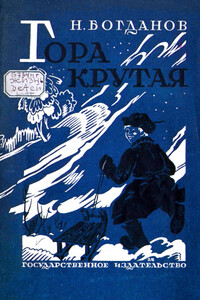
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга — о событиях Великой Отечественной войны. Главный герой — ветеран войны Николай Градов — человек сложной, нелегкой судьбы, кристально честный коммунист, принципиальный, требовательный не только к себе и к своим поступкам, но и к окружающим его людям. От его имени идет повествование о побратимах-фронтовиках, об их делах, порой незаметных, но воистину героических.
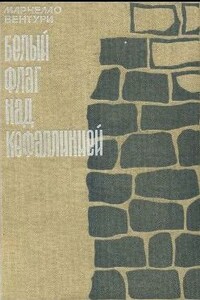
8 сентября 1943 года, правительство Бадольо, сменившее свергнутое фашистское правительство, подписало акт безоговорочной капитуляции Италии перед союзными силами. Командование немецкого гарнизона острова отдало тогда дивизии «Аккуи», размещенной на Кефаллинии, приказ сложить оружие и сдаться в плен. Однако солдаты и офицеры дивизии «Аккуи», несмотря на мучительные сомнения и медлительность своего командования, оказали немцам вооруженное сопротивление, зная при этом наперед, что противник, имея превосходство в авиации, в конце концов сломит их сопротивление.
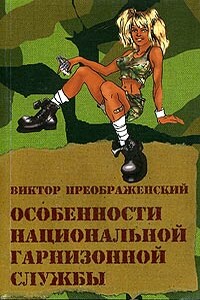
Служба в армии — священный долг и почетная обязанность или утомительная повинность и бесцельно прожитые годы? Свой собственный — однозначно заинтересованный, порой философски глубокий, а иногда исполненный тонкой иронии и искрометного юмора — ответ на этот вопрос предлагает автор сборника «Особенности национальной гарнизонной службы», знающий армейскую жизнь не понаслышке, а, что называется, изнутри. Создавая внешне разрозненные во времени и пространстве рассказы о собственной службе в качестве рядового, сержанта и офицера, В.
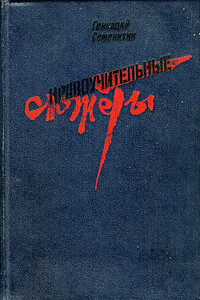
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
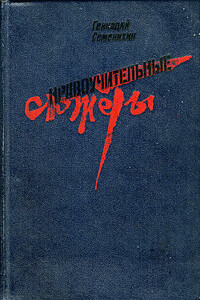
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

