О писательстве и писателях. Собрание сочинений [4] - [3]
Психический анализ в «Анне Карениной» чужд этой нервной подозрительности. Как будто взгляд автора на человека окончательно установился, когда он писал этот роман, и все приемы в изображении людей приобрели здесь окончательную твердость и отчетливость, так что в движении художественной кисти нет уже ни одного пробного мазка. Он уже не высматривает здесь душу человека, он видит ее и говорит о том, что видит, но не описывает того, что подозревает в ней.
Не менее убедительно, подробными сравнениями, г. Леонтьев указывает и превосходство «Анны Карениной» над «Войною и миром» в изображении общего колорита представленной там и здесь эпохи. Всегда и всеми «Война и мир» считалась безупречным романом с точки зрения исторической верности. Анализ необыкновенной тонкости, которому подверг критик этот роман, открывает в нем, при всюду безупречной верности природе человека вообще, некоторые уклонения в верности тому, Как могла выразиться эта природа в начале нашего века. Неточность, в которую впал здесь гр. Толстой, двоякая: общая, которая чувствуется во всем романе, и частная, которая выступает особенно резко при чтении некоторых сцен его. Все в России, за исключением государственного патриотизма, было «поплоше, послабее, побледнее» выражено в эпоху отечественной войны, нежели как это представил гр. Толстой. Люди того времени не имели такой сложности в своем душевном развитии, и в особенности они совершенно не умели так отчетливо и точно выражать свои душевные движения. Они отлично действовали и хорошо чувствовали, но впадали в непременную запутанность языка и в неясность выражений, как только им приходилось говорить о чем-нибудь сложном, углубленном, не так очевидном. Рефлексия, вечное обращение внутрь себя еще не углубило в то время и не разрыхлило душу русского человека, и все мысли в нем были не так тягучи, а чувства имели у себя более простую и ясную основу в фактах внешней действительности. С несравненным пониманием и обильным знанием фактов г. Леонтьев отмечает последовательные психические наслоения, которые позднее сгустили краски нашей личной и общественной жизни. Так, он тонко указывает на первое пробуждение у нас сильного воображения, которое замечается в Гоголе. И гораздо раньше, чем он оканчивает свою осторожную аргументацию, читатель убеждается, как много мыслей и чувств, ставших возможными и обычными лишь впоследствии, гр. Толстой внес в изображение эпохи, совершенно чуждой им. Как на пример особенно поразительный, г. Леонтьев указывает на отношения Пьера Безухова к пленному солдату, Платону Каратаеву, и на все размышления первого о народном. Эти мысли и подобные отношения стали возможны лишь после славянофилов, после Достоевского, но никакого следа их мы не открываем в воспоминаниях или в литературных произведениях за два первые десятилетия нашего века.
Третий недостаток, так же пропадающий в «Анне Карениной», есть излишество в «Войне и мире» ненужных натуралистических мазков. Г. Леонтьев не находит лишним введение каких бы то ни было грубых описаний или сцен, если они чем-нибудь служат, если их требует правда жизни. Так, грубое описание физиологических отправлений в «Смерти Ивана Ильича» не оскорбляет его вкус, как оно оскорбляло вкус многих критиков, во всех других отношениях менее взыскательных. Напротив, множество мимолетных замечаний, вовсе не грубых, в «Войне и мире» он справедливо признает ни для чего не служащими и видит в них только результат напряженного усилия художника всюду стоять как можно ближе к действительности. Эти излишества натурализма ничего не объясняют и не дополняют в ходе рассказа, а в искусстве, как и в органической природе, что не строго целесообразно, — то уже портит, что не нужно более — делается вредным.
Таков, всегда убедительный, проникнутый любовью, но уже и отчуждающийся суд, который произносит г. Леонтьев над высшими произведениями нашей натуральной школы. Мельком рассеяны в его пространном разборе меткие характеристики и других наших писателей, напр. Достоевского, Тургенева, Щедрина, Кохановской, Евг. Тур, Марко-Вовчка и др. Немногие строки, посвященные им, так изумительно захватывают самую сердцевину этих писателей, что они все будут сохранены историей нашей литературы, если она захочет быть мало-мальски внимательной к своему предмету. Несколько более пространная вводная характеристика посвящена только С. Т. Аксакову. Как бледною и неумелою кажется рядом с нею краткая же характеристика этого писателя, оставленная нам Хомяковым. Этот последний был только мыслитель и публицист, а это всегда недостаточно, когда нам предстоит говорить о людях или об их истории.
1896 Еще о гр. Л. Н. Толстом и его учении о несопротивлении злу>{2}
В обществе ходит (по крайней мере, в Петербурге) новое произведение гр. Л. Н. Толстого — письмо его к г. Кросби «Му dear Crosby»[9] — это обращение, оставленное без перевода, служит как бы заглавием русского текста небольшой, страниц в 10 малого формата, статьи. Не только подпись автора и обозначение «1896 год», но также внутреннее содержание письма и особенно слог его не оставляют сомнения, что мы имеем в нем действительно позднейший труд гр. Толстого. Оно могло бы — за исключением, впрочем, немногих строк, почти только отдельных выражений — появиться в печати. Его язык — умерен, изложение — спокойно; в общем оно производит впечатление гораздо лучшее, нежели многие из последних писаний знаменитого моралиста.

В.В.Розанов несправедливо был забыт, долгое время он оставался за гранью литературы. И дело вовсе не в том, что он мало был кому интересен, а в том, что Розанов — личность сложная и дать ему какую-либо конкретную характеристику было затруднительно. Даже на сегодняшний день мы мало знаем о нём как о личности и писателе. Наследие его обширно и включает в себя более 30 книг по философии, истории, религии, морали, литературе, культуре. Его творчество — одно из наиболее неоднозначных явлений русской культуры.
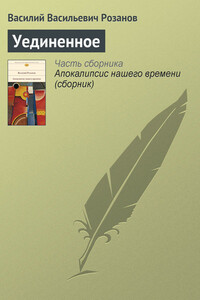
Книга Розанова «Уединённое» (1912) представляет собой собрание разрозненных эссеистических набросков, беглых умозрений, дневниковых записей, внутренних диалогов, объединённых по настроению.В "Уединенном" Розанов формулирует и свое отношение к религии. Оно напоминает отношение к христианству Леонтьева, а именно отношение к Христу как к личному Богу.До 1911 года никто не решился бы назвать его писателем. В лучшем случае – очеркистом. Но после выхода "Уединенное", его признали как творца и петербургского мистика.
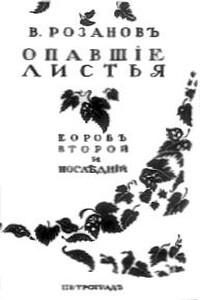
«Последние листья» (1916 — 1917) — впечатляющий свод эссе-дневниковых записей, составленный знаменитым отечественным писателем-философом Василием Васильевичем Розановым (1856 — 1919) и являющийся своего рода логическим продолжением двух ранее изданных «коробов» «Опавших листьев» (1913–1915). Книга рассчитана на самую широкую читательскую аудиторию.

Сюжет новой книги известного критика и литературоведа Станислава Рассадина трактует «связь» государства и советских/русских писателей (его любимцев и пасынков) как неразрешимую интригующую коллизию.Автору удается показать небывалое напряжение советской истории, сказавшееся как на творчестве писателей, так и на их судьбах.В книге анализируются многие произведения, приводятся биографические подробности. Издание снабжено библиографическими ссылками и подробным указателем имен.Рекомендуется не только интересующимся историей отечественной литературы, но и изучающим ее.

Оригинальное творчество Стендаля привлекло внимание в России задолго до того, как появился его первый знаменитый роман – «Красное и черное» (1830). Русские журналы пушкинской эпохи внимательно следили за новинками зарубежной литературы и периодической печати и поразительно быстро подхватывали все интересное и актуальное. Уже в 1822 году журнал «Сын Отечества» анонимно опубликовал статью Стендаля «Россини» – первый набросок его книги «Жизнь Россини» (1823). Чем был вызван интерес к этой статье в России?Второе издание.

В 1838 году в третьем номере основанного Пушкиным журнала «Современник» появилась небольшая поэма под названием «Казначейша». Автором ее был молодой поэт, чье имя стало широко известно по его стихам на смерть Пушкина и по последующей его драматической судьбе — аресту, следствию, ссылке на Кавказ. Этим поэтом был Михаил Юрьевич Лермонтов.

Книга посвящена пушкинскому юбилею 1937 года, устроенному к 100-летию со дня гибели поэта. Привлекая обширный историко-документальный материал, автор предлагает современному читателю опыт реконструкции художественной жизни того времени, отмеченной острыми дискуссиями и разного рода проектами, по большей части неосуществленными. Ряд глав книг отведен истории «Пиковой дамы» в русской графике, полемике футуристов и пушкинианцев вокруг памятника Пушкину и др. Книга иллюстрирована редкими материалами изобразительной пушкинианы и документальными фото.

В книге известного историка литературы, много лет отдавшего изучению творчества М. А. Булгакова, биография одного из самых значительных писателей XX века прочитывается с особым упором на наиболее сложные, загадочные, не до конца проясненные моменты его судьбы. Читатели узнают много нового. В частности, о том, каким был путь Булгакова в Гражданской войне, какие непростые отношения связывали его со Сталиным. Подробно рассказана и история взаимоотношений Булгакова с его тремя женами — Т. Н. Лаппа, Л. Е. Белозерской и Е. С. Нюренберг (Булгаковой).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.