О литературе - [4]
Теперь представим себе маму, которая рассказывает сказку своим детям и останавливается на том моменте, когда волк проглатывает Красную Шапочку. Дети стали бы протестовать и захотели бы “настоящую” историю, где Красной Шапочке удалось спастись, и, вздумай мама сослаться на строгие филологические принципы, ее бы вряд ли поняли. Дети знают “настоящую” сказку, которая ближе к “партитуре” братьев Гримм, а не Перро, но и с нею совпадает не полностью, поскольку пропускает ряд мелких деталей (в коих Гримм и Перро тоже расходятся – например, какие именно гостинцы Красная Шапочка несет бабушке). Но как раз в этом отношении дети охотно готовы идти на уступки, потому что речь идет о персонаже более чем условном, непостоянном в рамках традиции, зафиксированном во множестве партитур, прежде всего устных.
Так, Красная Шапочка, Д’Артаньян, Улисс или мадам Бовари живут за пределами своих текстов, и даже те, кто в глаза не видел первоначальных “партитур”, могут сказать об этих персонажах что-то более или менее конкретное. До того как я прочел “Царя Эдипа”, я уже знал, что Эдип женится на Иокасте. Несмотря на размытость, подобные тексты вполне верифицируемы: всякий, кто осмелился бы утверждать, что мадам Бовари помирилась с Шарлем и жила с ним долго и счастливо, столкнулся бы с неодобрением людей, обладающих здравым смыслом, как если бы существовал коллективный договор относительно судьбы этой героини.
Где живут кочующие персонажи? Все зависит от формата нашей реальности: допускает ли она существование квадратных корней, этрусского языка и двух догматов о Святой Троице – католического, согласно которому Святой Дух происходит и от Отца, и от Сына (ex Patre Filioque procedit), или византийского, согласно которому Святой Дух происходит только от Отца. Но это пространство обладает очень неопределенным статусом, и в нем допускаются единицы разного значения, потому как даже патриарх Константинопольский (готовый вступить в рукопашную с папой римским относительно догмата Filioque) согласился бы с папой (по крайней мере, я на это надеюсь), что настоящий Шерлок Холмс жил на Бейкер-стрит и что Кларк Кент и Супермен – одно лицо.
Тем не менее, даже если бы в бессчетных романах или поэмах было написано – придумаю первые попавшиеся примеры, – что Газдрубал убивает Коринну или Феофраст безумно любит Теодолинду, никто бы не подумал, что о них можно делать бесспорно верные утверждения, потому что речь идет о персонажах, родившихся под несчастливой звездой. Они не кочевали из текста в текст и не остались в коллективной памяти. Почему в этом мире более верным остается утверждение, что Гамлет не женился на Офелии, чем факт, что Феофраст женился на Теодолинде? Какое место здесь занимают Гамлет и Офелия, а какое – несчастный Феофраст?
Некоторые персонажи стали для общества в своем роде настоящими, потому что общество в течение многих веков или лет вкладывалось в них эмоционально. Мы со страстью отдаемся личным фантазиям, как будучи в уме и памяти, так и грезя наяву. Мы можем на самом деле страдать, воображая смерть любимого человека, или физически реагировать, представляя эротическую связь с ним. Равным образом в силу идентификации или проецирования мы можем сопереживать судьбе Эммы Бовари либо, как случалось в некоторых поколениях, кончать жизнь самоубийством из-за несчастий Вертера или Якопо Ортиса. Но на вопрос, в самом ли деле умер близкий нам человек, смерть которого мы вообразили, мы бы ответили “нет”, так как речь идет о нашем личном воображении. А вот если нас спросить, в самом ли деле Вертер кончил самоубийством, мы отвечаем “да”, так как эта выдумка не является личной, это культурная реальность, общая для целого легиона читателей. Так же мы сочтем безумцем человека, который покончит с собой, только представив, что его возлюбленная умерла, но найдем оправдание для того, кто наложит на себя руки из-за самоубийства Вертера, даже зная, что он вымышленный персонаж.
Мы должны найти место в мире, где эти персонажи существуют и определяют наше поведение так, что мы выбираем их как модель жизни, нашей собственной или других людей. Мы прекрасно понимаем друг друга, когда говорим, что у кого-то эдипов комплекс, раблезианский аппетит, кто-то наивен, как Дон Кихот, ревнив, как Отелло, кто-то мучается гамлетовскими сомнениями или ведет себя как неисправимый донжуан. И не только персонажи приходят из литературы в реальный мир, но и ситуации и предметы. Почему дамочки в гостиной, твердящие “Ах, что за художник Микеланджело!”, осколки бутылки, сверкающие на слепящем солнце, дорогие вещи дурного вкуса, страх в пригоршне пыли, изгородь, ясные, свежие и пресные воды, мерзостное брашно становятся навязчивыми метафорами, готовыми в любой момент повторить нам, кто мы есть и чего желаем, куда мы идем или даже чем мы не являемся и чего не хотим?
Эти литературные единицы среди нас. Они существовали не всегда, как (возможно) квадратные корни и теорема Пифагора, но, созданные литературой и вскормленные нашим воображением, они часть реальности, и мы должны принимать их в расчет. Во избежание онтологических и метафизических споров скажем так: они существуют как культурные привычки, как социальные установки. Но ведь и универсальное табу на инцест – всего лишь культурная привычка, идея, установка, однако установка достаточно мощная, чтобы повлиять на судьбу человеческого общества.
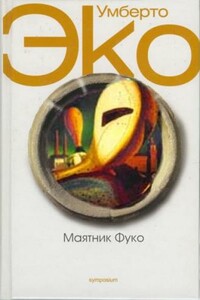
Умберто Эко (род. в 1932) — один из крупнейших писателей современной Италии. Знаменитый ученый-медиевист, специалист по массовой культуре, профессор Эко известен российскому читателю прежде всего как автор романа «Имя розы» (1980).«Маятник Фуко» — второй крупный роман писателя; изданный в 1988 году, он был переведен на многие языки и сразу же стал одним из центров притяжения мировой читательской аудитории. Блестящий пародийный анализ культурно-исторической сумятицы современного интеллигентного сознания, предупреждение об опасностях умственной неаккуратности, порождающей чудовищ, от которых лишь шаг к фашистскому «сперва — сознаю, а затем — и действую», делают книгу не только интеллектуально занимательной, но и, безусловно, актуальной.На русском языке в полном объеме «Маятник Фуко» издается впервые.
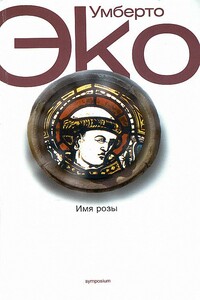
Умберто Эко (р. 1932) – один из крупнейших писателей современной Италии. Знаменитый ученый-медиевист, семиотик, специалист по массовой культуре, профессор Эко в 1980 году опубликовал свой первый роман – «Имя розы», принесший ему всемирную литературную известность.Действие романа разворачивается в средневековом монастыре, где его героям предстоит решить множество философских вопросов и, путем логических умозаключений, раскрыть произошедшее убийство.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
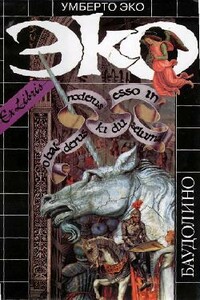
Последний роман Умберто Эко стал одной из самых читаемых книг на планете. В нем соединилось все, что знакомо читателям по прежним творениям автора: увлекательность «Имени розы», фантастичность «Маятника Фуко», изысканность стиля «Острова накануне». Крестьянский мальчик Баудолино — уроженец тех же мест, что и сам Эко, — волей случая становится приемным сыном Фридриха Барбароссы. Это кладет начало самым неожиданным происшествиям, тем более, что Баудолино обладает одним загадочным свойством: любая его выдумка воспринимается людьми как чистейшая правда…Умберто Эко (р.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
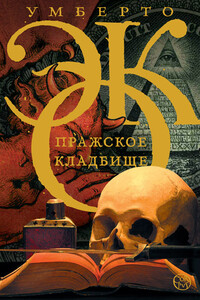
Действие романа «Пражское кладбище» разворачивается почти целиком во Франции, но последствия этой интриги трагически поразят потом целый мир. В центре событий довольно скоро окажется Россия, где в 1905 году была впервые напечатана знаменитая литературная подделка «Протоколы сионских мудрецов». В романе документально рассказано, чьими усилиями эта подделка была создана. Главный герой очень гадок, а все, что происходит с ним, и ужасно, и интересно. Автор, строя сюжет в духе Александра Дюма, протаскивает затаившего дыхание читателя по зловонным парижским клоакам и по бандитским притонам, вербует героя в гарибальдийское войско, заставляет его шпионить на все разведки и контрразведки мира, в том числе и на русскую охранку, укрощать истеричек из клиники доктора Шарко, распивать пиво с Зигмундом Фрейдом, форсить бок о бок со Свободой на баррикадах и даже участвовать в сатанинской мессе.
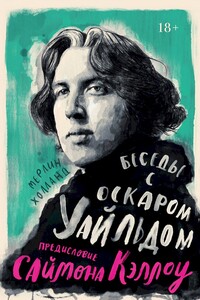
Талантливый драматург, романист, эссеист и поэт Оскар Уайльд был блестящим собеседником, о чем свидетельствовали многие его современники, и обладал неподражаемым чувством юмора, которое не изменило ему даже в самый тяжелый период жизни, когда он оказался в тюрьме. Мерлин Холланд, внук и биограф Уайльда, воссоздает стиль общения своего гениального деда так убедительно, как если бы побеседовал с ним на самом деле. С предисловием актера, режиссера и писателя Саймона Кэллоу, командора ордена Британской империи.* * * «Жизнь Оскара Уайльда имеет все признаки фейерверка: сначала возбужденное ожидание, затем эффектное шоу, потом оглушительный взрыв, падение — и тишина.
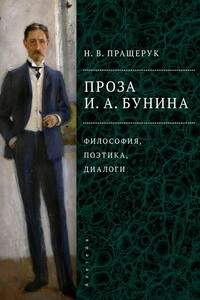
Проза И. А. Бунина представлена в монографии как художественно-философское единство. Исследуются онтология и аксиология бунинского мира. Произведения художника рассматриваются в диалогах с русской классикой, в многообразии жанровых и повествовательных стратегий. Книга предназначена для научного гуманитарного сообщества и для всех, интересующихся творчеством И. А. Бунина и русской литературой.
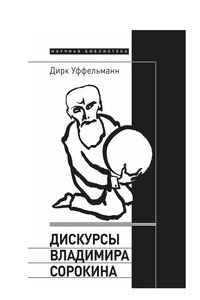
Владимир Сорокин — один из самых ярких представителей русского постмодернизма, тексты которого часто вызывают бурную читательскую и критическую реакцию из-за обилия обеденной лексики, сцен секса и насилия. В своей монографии немецкий русист Дирк Уффельманн впервые анализирует все основные произведения Владимира Сорокина — от «Очереди» и «Романа» до «Метели» и «Теллурии». Автор показывает, как, черпая сюжеты из русской классики XIX века и соцреализма, обращаясь к популярной культуре и националистической риторике, Сорокин остается верен установке на расщепление чужих дискурсов.
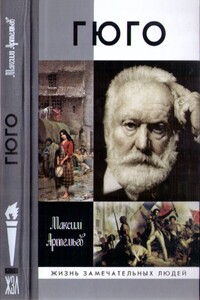
Виктор Гюго — имя одновременно знакомое и незнакомое для русского читателя. Автор бестселлеров, известных во всём мире, по которым ставятся популярные мюзиклы и снимаются кинофильмы, и стихов, которые знают только во Франции. Классик мировой литературы, один из самых ярких деятелей XIX столетия, Гюго прожил долгую жизнь, насыщенную невероятными превращениями. Из любимца королевского двора он становился политическим преступником и изгнанником. Из завзятого парижанина — жителем маленького островка. Его биография сама по себе — сюжет для увлекательного романа.
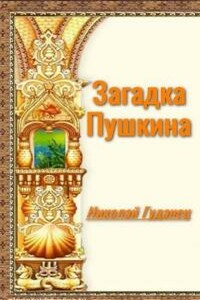
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В новую книгу волгоградского литератора вошли заметки о членах местного Союза писателей и повесть «Детский портрет на фоне счастливых и грустных времён», в которой рассказывается о том, как литература формирует чувственный мир ребенка. Книга адресована широкому кругу читателей.