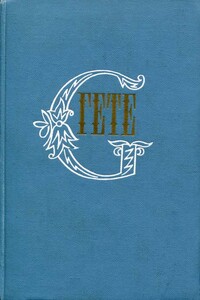Вот это две стены центральной залы. На третьей огромная картина: «Триумф Флоры» Кабанеля, придворного живописца и любимца второй империи. Этими словами все сказано. Розовое безвкусие, открытые груди, что-то цветочное, но не из настоящих, а из бумажных цветов, что-то напоминающее вместе и балет, и лавочку парфюмера — вот какое впечатление производит эта картина, заказанная еще империей для Лувра и вся составленная из кордебалета на воздухе и в облаках, с развевающимися тюниками и множеством голых рук и ног, умеренно красивых. Четвертая стена чуть не вся занята одной картиной бельгийца Вирца. Размеры этой картины — мастодонтовские, а содержание и достоинство — букашкины. Этот Вирц (недавно умерший) всю свою жизнь провел в покрывании красками громадных кусков полотна, по его мнению, на манер Рубенса, и с тою же, как у этого гениального художника, энергией, силою и колоритностью.
В бельгийском промышленном отделе даже целая стена наполнена множеством больших и, надо сказать, превосходных фотографий со странных созданий Вирца, занимающих в Брюсселе большой отдельный музей. В натуре Вирца было в самом деле много широкого, грандиозного. Несмотря на свое ограниченное состояние, он никогда не хотел продавать своих картин (по большей части громадных), говоря, что искусство и художник должны быть независимы; под конец жизни он выстроил особый дом (в форме одного пестумского храма), поставил там все свои картины и завещал его отечеству. Заглавия картин у него очень часто самые удивительные: «Мысли и видения отрезанной, головы», «Голод, безумие и преступление», «Бунт ада против неба», «Поторопившееся погребение», «Последняя пушка», «Пушечное мясо в XIX веке» и т. д. Ho y него было больше добрых и умных намерений, чем таланта, а у Рубенса ему удалось захватить лишь некоторые внешние приемы и краски, что-то напоминающее издали, как бледное эхо, его могучие удары кисти. Таким образом, все вместе у него — лишь непроходимая и скучная путаница громадных тел и драпировок, грубых, некрасивых, неколоритных и ни в каком отношении не интересных. Так как Вирц умер, и, конечно, никто от сих пор не станет хлопотать о нем и его картинах, то, вероятно, никогда более его произведения не появятся на выставках, не только всемирных, но и частных. А пока, громаднейший его холст, «Грехопадение», состоящий весь из бесконечного хаоса летящих и падающих ангелов и, вперемежку с ними, сатанинских мрачных фигур, пламенеющих в дыму, — только помог общему ничтожеству центральной залы.
Вокруг главных солистов этой залы, мною сейчас перечисленных, поместилось немало других еще произведений европейского искусства, картин и статуй, и ни одного между ними нет особенно талантливого. Немцы выставили тут два портрета, Фридриха II и Фридриха-Вильгельма, курфюрста бранденбургского, оба написанные дюссельдорфским профессором Кампгаузеном. Немцы бесконечно радуются на эти портреты, находят их совершенством, достойным всеобщего изучения и подражания. На наши же глаза, это виньетки из какой-нибудь «Иллюстрации», с совершенно условными лошадьми — оба монарха изображены верхом, — с человеческими фигурами только что солдатскими и лишенными всякой иной правды. Они выставили еще ужасную по бесталантности картину баденского художника Готфрида Келлера: «Нерон среди любовниц своих, смотрящий с платформы дворца на пожар Рима». Нерон тут, конечно, недурен: он выставлен каким-то упитанным тельцом или разжиревшим кастратом, с лицом, необыкновенно похожим на принца Наполеона, но все остальное потонуло в красно-кастрюльном тоне. Датчане выставили посредственную картину своей прославленной профессорши, г-жи Иерихау-Бауман: «Спасшиеся от кораблекрушения»; бельгийцы — совершенно академичную картину старого стиля, когда-то знаменитого своего де Кейзера: «Карл V освобождает христианских невольников в Тунисе»; итальянцы — одну из деревяннейших и безвкуснейших картин своих — «Дож Джованни Барбариго освобождает из заключения венгерскую королеву Марию»; наконец даже сами французы поставили тут несколько самых плохих вещей своих: казенную по-старинному, и вдобавок совершенно будто бы стертую, бледную, «Смерть Цезаря» Клемана и виньетку в больших размерах, без всякого исторического смысла, без трагедии, без глубины, без истинного выражения — «Последний день Коринфа» Робера Флери: последняя картина только в том и состоит, что где-то далеко, на пятом плане, въезжает верхом маленькая фигурка консула Муммия, и сзади него идет римское войско; спереди же несколько нагих гречанок, рвущих на себе в отчаянии волосы. Тут же странная картина Кабанеля, вздумавшего написать некую госпожу Пеншо с детьми (очевидно, французов) в флорентийских костюмах XIV века, да еще в тогдашнем бесцветном и лишенном всякого рельефа стиле: что за маскарад, что за уморительный каприз! Наконец, в этой же зале выставлена была (и притом очень невыгодно) картина г. Семирадского, вероятно, как представителя русской школы, вместе с г. Бродзким, и несколько неудачных, незначительных, большей частью лжеклассических статуй — и вот таким-то манером составилась главная, центральная, «почетная» зала художественного отделения всемирной выставки!