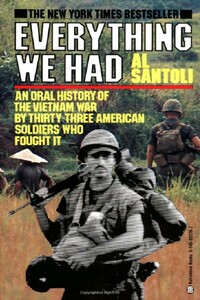Нужный человек - [10]
Василиса слила из корыта пенную воду в лохань, понесла из хаты. Воротилась, оделась в шубейку, понесла таз – вешать белье в сенцах.
Девочка, до сих пор не проронившая ни звука, но все время пристально изучавшая Степана Егорыча, пряча, однако, от него глаза, – когда они остались вдвоем, вновь взялась за рукоять мельнички и со скребущим звуком стала вращать жернов.
Она была близко похожа на Василису лицом: такой же тонкий нос, такие же четкие бровки над темными глазами, губы не распущенные вяло, как у многих таких подростков, а по Василисиному плотно сжатые. Это была та же Василиса, заново повторяющая в мире свое детство. Вместе со сходством проглядывало и что-то другое – вероятно, черты ее отца, но так слабо, что и уловить-то толком ничего было нельзя и представить – какой из себя ее отец, что же попало от него дочери. Василисина порода была сильней, Василиса главенствовала и тут, в этой совместно порожденной ими жизни, и Степан Егорыч, глядя на девочку, не мог побороть в себе чувства, что Василиса вроде бы и не вышла из комнаты, а продолжает быть перед ним, только чуть в другом обличье.
– Значит, Катей тебя кличут? – сказал Степан Егорыч, не зная, как начать с девочкой разговор. – У меня дочка тоже Катя.
Девочка, не подымая головы, крутила мельницу, подсыпая из горсти другой руки зерно в глазок жернова. Все, надетое на ней, было по росту: коричневое платье, вязаная кофта. Не новое, не покупное, переделанное Василисой из своего, но переделанное умело, с заботой, чтоб не просто одеть, – принарядить дочь. Его Поля тоже всегда старалась о девочках, тоже, если не хватало на новое, покупное, перешивала ношеное, но чтобы сидело вот так же ладненько, чтоб гляделось обновкой, порадовало дочек… Только валенки на Кате были не по ноге, Василисины, должно быть, подшитые толстой кошмой, – где, у кого сейчас купишь детские, наверное, их и делать-то перестали…
– Не много так-то намелешь, – заметил Степан Егорыч. – Иль в деревне мельницы нет?
– Она не работает, – едва слышно ответила девочка.
– А что так?
– Испортилась.
– Стало быть, так вот все и мелют?
– Еще терницы есть. А кто в ступах толкёт.
– Беда!.. – склонил голову Степан Егорыч. Его, любившего во всем хозяйственный лад, исправность, сокрушало это повсеместное разорение оборудованности жизни, что принесла война, пропажа самого насущного – спичек, гвоздей, веревок, керосина, мыла; нигде не купить тарелки, стакана, швейной иглы, катушки ниток; человек должен исхитряться в самом простом, где раньше и не думалось, все было под рукой, как допотопный житель добывать огонь кресалом, чтобы вздуть свой очаг, сварить немудрую пищу…
– А мой папка живой! – вдруг сказала девочка, как будто чему-то наперекор это утверждая. – Просто он писем не пишет.
Степан Егорыч не разобрал сначала – к чему это она, но тут же, следом, понял; сердце у него тепло и больно дрогнуло от жалости к этой маленькой девочке, которая видела в нем смутную, пока еще непонятную, но все же угрозу и слабыми, ничтожными своими силами оборонялась от него, чужого, вошедшего в ее дом. И не только защищая себя и мать, но защищая и своего отца, который был сейчас далеко и никак и ничем не мог защитить себя в этом своем доме.
– Ведь не все письма доходят, правда? Много ведь и пропадает?
Девочка оставила жернов, с горстью зерна в кулачке она смотрела на Степана Егорыча, впервые в его глаза своими по-взрослому серьезными глазами, и как бы требовала, чтобы он подтвердил это ее объяснение, которое она придумала для себя, уверил ее в нем.
И Степан Егорыч согласился, сказал то, что хотела она услышать – действительно, от войны повсюду сумбур и непорядок, и это сколько угодно, что письма пропадают по дороге, особенно, если с фронта. Известно, ка́к там – бомбежки и прочее, войска постоянно в перемещении, туда, сюда, где ж в такой колготе почте нормально действовать. А то еще так: нет писем и нет, долго нет, а потом сразу несколько. Оказывается, находились в боях, не до писем было…
Он изложил это девочке, как полную правду, вспомнив, сколько сам на фронте написал писем Поле. Одно, первое, как на формировании были, второе – по дороге на фронт. А потом пошли недели – ни сна, ни отдыха, все время отступали с боями, попадали в окружение и вырывались из него; мысли были об одном – о немцах, патронах, воде, раненых сотоварищах. Поубивало командиров, три раза менялся номер части…
А потом уж и писать стало некуда: осталась его Заовражная далеко по ту сторону фронта…
8
Ночью Степан Егорыч лежал тихо, но без сна. Дышалось как-то трудно, тело было усталым, больным, голова тяжелела, – наверное, с дороги, с голоду. Он только и поел за целый день, что в хуторе, куда заезжали. У Василисы, конечно, нашлась бы для него еда, но одалживаться у нее язык не двигался у Степана Егорыча. Завтра Дерюгин что-нибудь выпишет ему из колхозной кладовой, авансом, будет у него своя пища, а пока – ничего не сделаешь, надо терпеть…
Василиса так и не вступила с ним в разговор: молча достирала, подтерла пол, погремела у печи чугунами, готовя на утро поросенку затируху из картофельных очисток и отрубей. Степан Егорыч по-прежнему все сидел на табурете, прокашливаясь, когда было уже совсем не сдержаться, мучительно желая покурить. Но он уже знал, что у местных не принято дымить в доме и Василиса этого не одобрит. Выходить же на двор, на мороз и ветер, страсть как не хотелось, он только начал по-настоящему согреваться. Но все же он вышел, постоял за углом хаты, где меньше прохватывал ветер, жадно высосал цигарку из последнего Василь Петровичева табака. От курева, которым он был богат, теперь у него осталась только пачка папирос производства Федора Карболкина, про которую Степан Егорыч решил, что ее надо тянуть подольше: кто знает, разживется ли он тут табаком, может, тут, у здешних, такой обычай, что и не курит никто, и табака даже не сеют, не заведено…

«… Уже видно, как наши пули секут ветки, сосновую хвою. Каждый картечный выстрел Афанасьева проносится сквозь лес как буря. Близко, в сугробе, толстый ствол станкача. Из-под пробки на кожухе валит пар. Мороз, а он раскален, в нем кипит вода…– Вперед!.. Вперед!.. – раздается в цепях лежащих, ползущих, короткими рывками перебегающих солдат.Сейчас взлетит ракета – и надо встать. Но огонь, огонь! Я пехотинец и понимаю, что́ это такое – встать под таким огнем. Я знаю – я встану. Знаю еще: какая-то пуля – через шаг, через два – будет моя.

Уголовный роман замечательных воронежских писателей В. Кораблинова и Ю. Гончарова.«… Вскоре им попались навстречу ребятишки. Они шли с мешком – собирать желуди для свиней, но, увидев пойманное чудовище, позабыли про дело и побежали следом. Затем к шествию присоединились какие-то женщины, возвращавшиеся из магазина в лесной поселок, затем совхозные лесорубы, Сигизмунд с Ермолаем и Дуськой, – словом, при входе в село Жорка и его полонянин были окружены уже довольно многолюдной толпой, изумленно и злобно разглядывавшей дикого человека, как все решили, убийцу учителя Извалова.

«…– Не просто пожар, не просто! Это явный поджог, чтобы замаскировать убийство! Погиб Афанасий Трифоныч Мязин…– Кто?! – Костя сбросил с себя простыню и сел на диване.– Мязин, изобретатель…– Что ты говоришь? Не может быть! – вскричал Костя, хотя постоянно твердил, что такую фразу следователь должен забыть: возможно все, даже самое невероятное, фантастическое.– Представь! И как тонко подстроено! Выглядит совсем как несчастный случай – будто бы дом загорелся по вине самого Мязина, изнутри, а он не смог выбраться, задохнулся в дыму.

Произведения первого тома воскрешают трагические эпизоды начального периода Великой Отечественной войны, когда советские армии вели неравные бои с немецко-фашистскими полчищами («Теперь — безымянные…»), и все советские люди участвовали в этой героической борьбе, спасая от фашистов народное добро («В сорок первом»), делая в тылу на заводах оружие. Израненные воины, возвращаясь из госпиталей на пепелища родных городов («Война», «Целую ваши руки»), находили в себе новое мужество: преодолеть тяжкую скорбь от потери близких, не опустить безвольно рук, приняться за налаживание нормальной жизни.
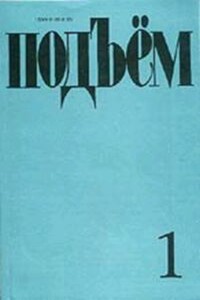
«… И вот перед глазами Антона в грубо сколоченном из неструганых досок ящике – три или пять килограммов черных, обугленных, крошащихся костей, фарфоровые зубы, вправленные в челюсти на металлических штифтах, соединенные между собой для прочности металлическими стяжками, проволокой из сверхкрепкого, неизносимого тантала… Как охватить это разумом, своими чувствами земного, нормального человека, никогда не соприкасавшегося ни с чем подобным, как совместить воедино гигантскую масштабность злодеяний, моря пролитой крови, 55 миллионов уничтоженных человеческих жизней – и эти огненные оглодки из кострища, зажженного самыми ближайшими приспешниками фюрера, которые при всем своем старании все же так и не сумели выполнить его посмертную волю: не оставить от его тела ничего, чтобы даже малая пылинка не попала бы в руки его ненавистных врагов…– Ну, нагляделись? – спросил шофер и стал закрывать ящики крышками.Антон пошел от ящиков, от автофургона, как лунатик.– Вы куда, товарищ сержант? Нам в другую сторону, вон туда! – остановили его солдаты, а один, видя, что Антон вроде бы не слышит, даже потянул его за рукав.

Произведения первого тома воскрешают трагические эпизоды начального периода Великой Отечественной войны, когда советские армии вели неравные бои с немецко-фашистскими полчищами («Теперь — безымянные…»), и все советские люди участвовали в этой героической борьбе, спасая от фашистов народное добро («В сорок первом»), делая в тылу на заводах оружие. Израненные воины, возвращаясь из госпиталей на пепелища родных городов («Война», «Целую ваши руки»), находили в себе новое мужество: преодолеть тяжкую скорбь от потери близких, не опустить безвольно рук, приняться за налаживание нормальной жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
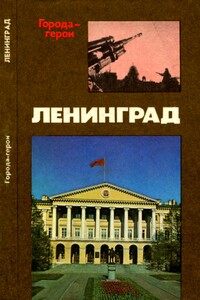
В художественно-документальной повести ленинградского журналиста В. Михайлова рассказывается о героическом подвиге Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, о беспримерном мужестве и стойкости его жителей и воинов, о помощи всей страны осажденному городу-фронту. Наряду с документальными материалами автором широко использованы воспоминания участников обороны, воссоздающие незабываемые картины тех дней.

«— Между нами и немцами стоит наш неповрежденный танк. В нем лежат погибшие товарищи. Немцы не стали бить из пушек по танку, все надеются целым приволочь к себе. Мы тоже не разбиваем, все надеемся возвратить, опять будет служить нашей Красной Армии. Товарищей, павших смертью храбрых, честью похороним. Надо его доставить, не вызвав орудийного огня».

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В первые же дни Великой Отечественной войны ушли на фронт сибиряки-красноярцы, а в пору осеннего наступления гитлеровских войск на Москву они оказались в самой круговерти событий. В основу романа лег фактический материал из боевого пути 17-й гвардейской стрелковой дивизии. В центре повествования — образы солдат, командиров, политработников, мужество и отвага которых позволили дивизии завоевать звание гвардейской.