Нравы Растеряевой улицы - [20]
И она еще раз огрела его по плечу.
Порфирыч улыбался во все лицо.
В это время на пороге показался Лубков; он нес под мышкой большой кусок весового хлеба, придерживая другой рукой конец полы своего халата, которая была наполнена огурцами.
Свалив все это на стойку, он взял один огурец и, шмыгая им по боку, говорил Порфирычу:
— Какая, братец ты мой, комедия случилась… Алещку Зуева, чать, знаешь?
— Ну?
— Ну. То есть истинно со смеху уморил!.. Малый-то замотался, опохмелиться нечем. Что будешь делать!.. Сижу я, никак вчерась, вот так-то на крылечке, гляжу, что такое: тащит человек на себе ровно бы ворота какие. Посмотрю, посмотрю — ко мне!.. "Алеха!" — "Я". — "Что ты, дурак?" — "Да вот, говорит, сделай милость, нет ли на полштоф, я тебе приволок махину в сто серебром…" — "Что такое?" — "Надгробие", говорит. Так я и покатился! Это он с кладбища сволок. "Почитай-кось, говорит, что тут написано?.." Начал я разбирать: "Пом-мя-ни". — "Ну, вот я и помяну", говорит… Хе-хе-хе!
Смех…
Лубков откусывает пол-огурца.
— Кам-медия! — говорит он, усаживаясь снова на крылечке.
Настает общее молчание. Жена Лубкова грозит кулаком около самого носа Порфирыча. Тот сладко улыбается, полузакрыв глаза…
В обиталище Лубкова он делал дела пополам с шуткой; но я не стану изображать, каким образом тут в руки Порфирыча попадала та или другая нужная ему вещица, отрытая в ящике с сборным железом. Все это делается "спрохвала", тянется от нечего делать долго, но вместе с тем, благодаря талантам Порфирыча, не носит на себе ничего отталкивающего. Самый процесс обирания Лубкова весьма мил. Жадности или алчности не было вообще заметно в действиях Прохора Порфирыча: на. его долю приходилось слишком много такого, что можно было брать наверняка, без подвохов и подходов; да кроме того, даже при таком тихом образе действий, Порфирыч мог еще подготовлять себе надобную минуту. Уходя от нужного человека домой, он находил полную возможность сказать ему: "Так смотри же, за тобой осталось… Помни!" Вообще особенность Прохора Порфирыча состояла в уменье смотреть на бедствующего ближнего одновременно и с презрительным сожалением, и с холодным равнодушием, и расчетом, да еще в том, что такой взгляд осуществлен им на деле прежде множества других растеряевцев, тоже понимавших дело, но не знавших еще, как сладить с собственным сердцем.
Взяв от понедельника все, что можно взять наверняка, Прохор Порфирыч, спокойный и довольный, возвращался домой. Поджидая у перевоза лодку, он присел на лавочке, закурил папироску и разговорился с своим соседом. Это был старик лет шестидесяти, с зеленоватой бородой, по всем приметам заводский мастер. На коленях он держал большой мешок с углем.
— Что же, ты бы работы поискал, — говорил внушительно
Прохор Порфирыч.
— Друг! работы? По моим летам теперича надо бы понастоящему спокой, а я вон…
Старик как-то пихнул мешок с углем.
— Стало быть, нету, — прибавил он. — Что я знаю? Всю жизнь колесо вертел, это разве куда годится?
— Плохо! Ну, и… того, потаскиваешь уголек-то?
— И — да! братец мой… Я в эфтом не запираюсь: которые господа у меня берут, те это знают: "Что, старичок, подтибрил?" — "Так точно, говорю, васскородие!.." Так-то! Ничего не поделаешь!
Старик замолчал и потом что-то начал шептать Порфирычу на ухо, но тот его тотчас же остановил.
— Ты, старина, таких слов остерегайся!
Старик вздохнул. Лодка причалила к берегу, и в нее вошла толпа пассажиров: "казючка" (женщина зареченской стороны), больничный солдат с книгой, два мещанина, старик и Прохор Порфирыч. Лодка тихо отплыла от берега.
— Вытащили его? — спрашивал один мещанин другого.
— Вытащили… Главная причина, пять дён сыскать не могли: шарили, шарили… Раз двадцать невода закидывали, нет да на поди… А он, что же? какую он штуку удрал!..
— Н-ну?
— Знаешь ключи-то у берега? Он туда и сковырнись, засел в дыру-то, нет — да и полно!
— Вот тоже наше дело, — заговорил солдат с книгой. — Я говорю: васскородие, нешто голыми людей хоронить показано где? А он мне…
— Это к чему же речь ваша клонит? — иронически перебил Порфирыч.
— Чево это?
— В как-ком, говорю, смысле?
Старик прищурился и, видимо, не расслышал иронических слов соседа.
— Он-то, что ль? — заговорил старик. — О-о-о! Он смыслит!
Еще как концы-то прячет! Ты, говорит, богом тоже в наготе рожден. Бона ка-ак!..
Порфирыч, откинувшись к краю лодки, с презрительной улыбкой глядел на полуглухого старика, который начал медленно набивать табаком свой золотушный нос.
— Он, брат, пон-нимает!..
Выйдя на берег, Порфирыч повернул налево, мимо каменной стены архиерейского двора. У задних ворот, выходящих на реку, стояло несколько консисторских чиновников в вицмундирах; одни торопливо докуривали папиросы, другие упражнялись в пускании по воде камешков рикошетом и делали при этом самые атлетические позы. У берега бабы и солдаты стирали белье, шлепая вальками. Порфирыч пошел городским садом. На лавке, среди всеобщей пустынности, сидел какой-то отставной чиновник в одном люстриновом пальто и в картузе с красным околышем. Это современный капитан Копейкин.
Принеся на алтарь отечества все во время севастопольской кампании, то есть съев сотни патриотических обедов, устраивавшихся для ополченцев, он и теперь как будто ожидает возвращения такого же счастливого времени. Рядом с ним была женщина подозрительного свойства; она как-то особенно пристально всматривалась в лицо проходившего Порфирыча и делала томные глаза.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
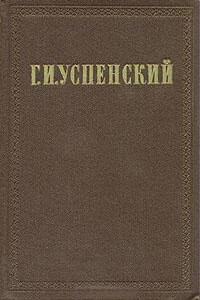
В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.

«Это просто рассказ… о личном знакомстве человека улицы с такими неожиданными для него впечатлениями, которых он долго даже понять не может, но от которых и отделаться также не может, критикуя ими ту же самую уличную, низменную действительность, к которой он сам принадлежит. Тут больше всего и святей всего Венера Милосская… с лицом, полным ума глубокого, скромная, мужественная, мать, словом, идеал женщины, который должен быть в жизни — вот бы защитникам женского вопроса смотреть на нее… это действительно такое лекарство, особенно лицо, от всего гадкого, что есть на душе… В ней, в этом существе, — только одно человеческое в высшем значении этого слова!» (Глеб Успенский)
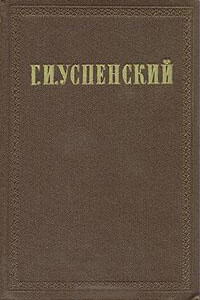
В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.

В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Из книги: Алексей Толстой «Собрание сочинений в 10 томах. Том 4» (Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1958 г.)Комментарии Ю. Крестинского.

Немирович-Данченко Василий Иванович — известный писатель, сын малоросса и армянки. Родился в 1848 г.; детство провел в походной обстановке в Дагестане и Грузии; учился в Александровском кадетском корпусе в Москве. В конце 1860-х и начале 1870-х годов жил на побережье Белого моря и Ледовитого океана, которое описал в ряде талантливых очерков, появившихся в «Отечественных Записках» и «Вестнике Европы» и вышедших затем отдельными изданиями («За Северным полярным кругом», «Беломоры и Соловки», «У океана», «Лапландия и лапландцы», «На просторе»)

Статья Лескова представляет интерес в нескольких отношениях. Прежде всего, это – одно из первых по времени свидетельств увлечения писателя Прологами как художественным материалом. Вместе с тем в статье этой писатель, также едва ли не впервые, открыто заявляет о полном своем сочувствии Л. Н. Толстому в его этико-философских и религиозных исканиях, о своем согласии с ним, в частности по вопросу о «направлении» его «простонародных рассказов», отнюдь не «вредном», как заявляла реакционная, ортодоксально-православная критика, но основанном на сочинениях, издавна принятых христианской церковью.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том трехтомного издания прозы и эссеистики М.А. Кузмина вошли повести и рассказы 1906–1912 гг.: «Крылья», «Приключения Эме Лебефа», «Картонный домик», «Путешествие сера Джона Фирфакса…», «Высокое искусство», «Нечаянный провиант», «Опасный страж», «Мечтатели».Издание предназначается для самого широкого круга читателей, интересующихся русской литературой Серебряного века.К сожалению, часть произведений в файле отсутствует.http://ruslit.traumlibrary.net.
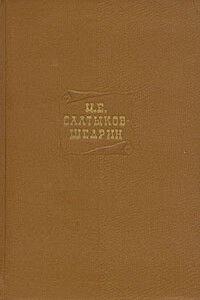
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.В двенадцатый том настоящего издания входят художественные произведения 1874–1880 гг., публиковавшиеся в «Отечественных записках»: «В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди», рассказы а очерки из «Сборника».
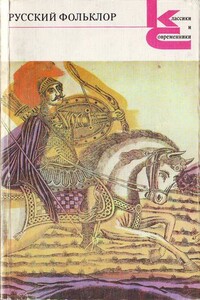
В книгу вошли наиболее известные и популярные образцы русского устного народного творчества, публиковавшиеся в разное время в сборниках известных учёных-фольклористов XIX–XX вв.
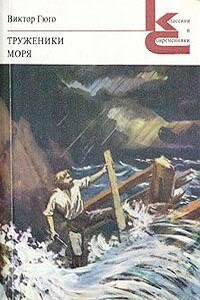
Роман французского писателя Виктора Гюго «Труженики моря» рассказывает о тяжелом труде простых рыбаков, воспевает героическую борьбу человека с силами природы.

Роман советского писателя, лауреата Ленинской премии М.Г. Маркова повествует о жизни сибирских крестьян в дореволюционную эпоху, о классовом расслоении деревни, о событиях в период Октябрьской революции и гражданской войны в Сибири.

Роман Кена Кизи (1935–2001) «Над кукушкиным гнездом» уже четыре десятилетия остается бестселлером. Только в США его тираж превысил 10 миллионов экземпляров. Роман переведен на многие языки мира. Это просто чудесная книга, рассказанная глазами немого и безумного индейца, живущего, как и все остальные герои, в психиатрической больнице.Не менее знаменитым, чем книга, стал кинофильм, снятый Милошем Форманом, награжденный пятью Оскарами.